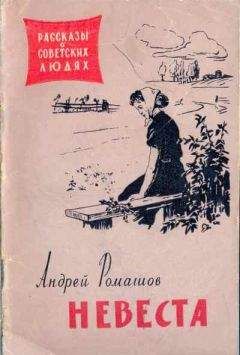Мария Метлицкая - Ее последний герой
Рано утром отец уходил за грибами, и когда дочь просыпалась, точно не раньше одиннадцати, из кухни уже тянуло запахом грибов, жареного лука и картошки.
Вечерами они смотрели телевизор, долго пили чай и молчали. Отец не задавал вопросов, и она была ему за это благодарна.
Зато объявилась мать. Долго тараторила про «волшебный отдых», пятизвездочный отель, устрицы на ужин и про пианиста за белым роялем.
– Наконец живу как человек, – заключила мать и нехотя спросила: – Ну а что там у вас?
В голосе ее слышалось легкое презрение и даже брезгливость.
– Да что там у вас может быть? Сидите в своем курятнике? Ну-ну… Ну ладно этот старый утюг. А ты? Молодая женщина! Без удобств, с этой дурацкой печкой!
Мать продолжала возмущаться и негодовать, Анна молчала, понимая бессмысленность возражений.
Потом пошли разговоры про «личную жизнь» и прямые вопросы.
– Сообщу, – пообещала Анна, – непременно сообщу. Успеешь сшить вечернее платье.
– От тебя дождешься! – фыркнула мать и закончила разговор.
«Совсем чужая, – подумала Анна. – Как это странно: женщина, родившая меня в муках, кормившая грудью, купающая меня в ванночке, водившая меня по музеям и сидевшая у моей постели в болезни… Ничего. Совершенно ничего. Не о чем говорить, незачем встречаться. Ведь мы даже не скучаем друг по другу!»
Потом вдруг подумалось: «Ах, если бы у меня была дочь, девочка! Я бы так постаралась! Господи, как бы я постаралась быть ее другом, оберегать ее от всех забот, заслонять, прикрывать… Биться за нее не за жизнь, а на смерть! Но дочки у меня не будет. И сына не будет. Никогда».
Про работу не думалось. Решила, через месяц-другой. Да и какой из нее работник! Размазанная, как варенье по столу, растертая в мелкую крошку, растекшаяся прокисшим киселем баба. Зеркала она избегала, знала: ничего хорошего там не увидит. Тусклые волосы, тусклые глаза, тусклое лицо.
Она не страдала так, как обычно страдает брошенная женщина. Понимала, что все должно было закончиться. Только не так быстро, не так неожиданно. Обида почти поглотила страдания. Только гулкая пустота внутри, как будто из нее вытащили все содержимое. Пустота, но не легкость: тяжело поднять руку, тяжело встать с кровати. Хандра накрыла, как душное одеяло во сне, сбрасываешь, а потом мерзнешь и снова его натягиваешь. «Так и просплю всю зиму, – решила она. – Укроюсь потеплее и просплю. А к весне, может быть, проснусь. Или нет. Какая разница?»
Телефон она отключила. Была уверена, что он не позвонит, а всех остальных слышать не могла. По нему она скучала. Вспоминала подробности, мелочи, на которые обращают внимание только влюбленные. Закрывала глаза и вспоминала его лицо, словно проводила пальцем по скулам, подбородку, бровям и губам.
А потом… Совсем свихнулась. Поехала в город и купила его одеколон. Надушила свой свитер и… стало легче. Странно, но легче. Так она с ним прощалась, медленно, постепенно, осторожно. Так, казалось ей, легче. Слез не было, только тоска. А тоска – знакомое дело. И это пройдет. Только когда?
А ночью все равно повторяла одними губами:
– Илюша, Илюша.
И, тихо всхлипывая, засыпала.
* * *Ничего нового. Абсолютно ничего. Очередная подлость. Впрочем, подлость ли? Разве он что-нибудь обещал? Разве клялся в вечной любви? Сулил долгий совместный век и прочие сладости? Нет, нет и нет! Ничего похожего! Он был честен с нею, он предупреждал: ничего не выйдет.
А она, легкомысленно, как все молодые женщины: «А пусть будет как будет. После нас – хоть потоп, что отпущено – мое». Ладно, раз так. Что же ему, отказываться? Не отказался, правильно.
Ах, как же хотелось быть честным! Именно честным, а не жестоким и бессердечным. Все, хватит «анализов». Как говорила Магда, анализы несут в амбулаторию. Освободи свою голову, Городецкий, освободи свою совесть, освободи свое сердце, если они у тебя еще остались. Нет, сердце-то точно имеется, болит, сволочь, так жмет по ночам, что не спится. А может, это совесть? Но при чем тут она? Ты не бросил старую и немощную женщину, ты не оставил младенца. Ты… да ты молодец, Городецкий! Устал, надоело – пошла к черту. Что ты там говорил ей о любви?
Ладно, смешно философствовать на эти темы в твоем возрасте и с твоим опытом, Городецкий! Ну, разрешил себе, и ладно. Она проживет. В молодости все страдания имеют другой градус. И он проживет. Не впервой. Хотя сволочь он, конечно, последняя. А не надо ей было лезть со своей статьей! Не надо было ворошить. Скучал по ней сильно, так, что сердце начинало болеть еще больше. Пару раз чуть не набрал ее номер, чтобы услышать хрипловатое «слушаю».
– Почему не «алло»? – удивлялся он. – Старческое какое-то «слушаю».
Она смеялась:
– Ну я же слушаю!
– Мы из разных времен, – сказал он однажды.
Она удивилась:
– А разве это так важно? Разве другое не главное?
– Пока, – уточнил он, – только пока главное другое. Но скоро все обязательно переменится, и ты еще вспомнишь мои слова.
Она протестующе замотала головой.
А он пригрозил ей пальцем:
– Вспомнишь, куда ты денешься!
Все правильно. Именно сейчас, вот на этой ноте. И то, что обидел, тоже правильно. Так ей будет легче. Он знает.
* * *Со второй половины октября наконец зарядили дожди. В доме стало сыро и зябко: печка остывала почти мгновенно, как только в ее ненасытную утробу переставали подкладывать дрова.
Однажды утром, за завтраком, отец, не глядя на нее, произнес:
– Собираемся, Анюта. Давай, давай, по-быстрому. Хватит тут потолок коптить. Пора начинать жить. Сегодня – в Москву! Иди, начинай свои сборы.
Она молча пошла в свою комнату. Все правильно. Пора начинать жить.
Через пару часов собрались. Укладывая все эти невозможные бесчисленные банки с повидлом и грибами в багажник, она уже чувствовала зуд нетерпения: скорее в Москву, скорее домой! Отмокнуть в горячей ванне, пойти в парикмахерскую, постричься покороче или даже перекраситься, например в блондинку или ярко-рыжую. Всякие СПА, массажи, шоколадные обертывания. Покрасить ногти красным лаком и купить белое пальто.
И наконец, на работу. Как хочется на работу! К людям, в офис, пахнущий ковровым покрытием. Пить кофе из кофе-машины и закусывать сушками, болтать с коллегами, кокетничать, бегать после работы в кино или зависать в суши-баре.
В Москву!
Отец сидел на заднем сиденье, поддерживая руками свои сокровища.
– Ну и что будем делать со всем этим? – спросила дочь, кивнув подбородком на ценный груз. – Может, у «Пятерочки» встанешь и поторгуешь? Рублей по тридцать за банку.
Отец, помолчав, тихо и виновато ответил:
– Маме отвезешь. Она любит с печеньем.
Анна вспыхнула от стыда. Поняла: ничего не проходит. Все, что мы носим в сердце: обиды, боль, тоску и любовь, – это навсегда. Никуда не деться.
* * *В начале девяностых все окончательно полетело в пропасть. По павильонам шлялись крысы, с неохотой уступая дорогу актерам и режиссерам, непонятно что искавшим в этой могиле. Киностудия напоминала загробный мир – странный и пугающий. Повсюду валялись разбитые декорации, сломанная мебель, болтались рассохшиеся двери, гулко хлопали дверные рамы.
Храм мечты превратился в холодный кошмар.
Городецкий понимал, что не он один такой. Как-то поймал машину и узнал в водителе Вальку Коркина. Валька Коркин, красавчик, бонвиван в разноцветных бархатных пиджаках, к тому же совсем неплохой актер, – «бомбит», натянув на лоб дешевую кепчонку!
– Узнают, – сквозь зубы процедил Валька. – Все равно узнают. А куда деваться? Жена молодая, ребенок. Двое от первого брака. На памперсы и на хлебушек, – горько пошутил Валька.
Городецкий мучительно размышлял, как дать Коркину деньги. Тот взял, не моргнув глазом. Нет, покраснел. Побалагурил для отвода глаз. А потом посуровел и повторил:
– А куда деваться, Илюх? Выживать-то надо. Радуйся, что у тебя в порядке жена и никаких детей. Можно лечь и лежать. А что, заслужили!
Валька задумался.
– А ведь есть что вспомнить, Илюха!
Городецкий согласился:
– Правда. – И грустно добавил: – А у других и этого нет.
И рассказал Коркину подробности о коллегах. Кто в Турцию за куртками, кто «бомбит», а кто и хаты чужие метет. Например, С. А ведь какая была баба! Просто Бриджит Бардо нашего разлива. Думали ли мы с тобой, а, Илюх? Любимцы фортуны!
Валька написал на бумажке свой телефон. Городецкий вышел из машины и, оглянувшись, бросил бумажку в урну у подъезда. Ни к чему. Неудачник притягивает неудачника. Сейчас осталось одно – ныть. А ныть вместе не хочется.
Он тогда еще подумал: «А чем я хуже? Да и в лицо меня не знают, мне легче, чем Вальке». Сел в машину и начал кататься. Оказалось, непростое дело. Надо знать точки, хлебные места. Стоять и ждать. Наматывать километры, пытаясь увидеть поднятую руку, – одни расходы. Да и цену объявить не умел, наглости не хватало. Женщин и стариков подвозил просто без денег, объявляя им, смутившимся, что сегодня проводит благотворительную акцию, ну или что ему просто «по пути».