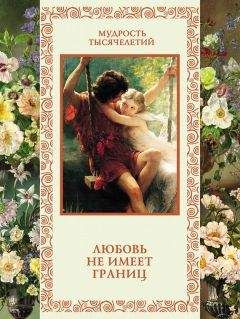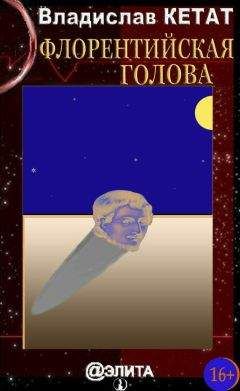Владислав Кетат - Дети иллюзий
Дон Москито без тоста допивает свой бокал.
– Ну, почти. Простынкой кое-что прикрыто.
– Дашь посмотреть? – без задней мысли спрашиваю я.
Ладонь Дона Москито проносится в опасной близости от моей макушки.
Инстинктивно пригибаюсь:
– Сдурел, что ли? Я же пошутил!
Дон Москито плюхается на свой стул. И когда только успел вскочить!
– За такие шутки, Валера…
Немного отодвигаюсь от стола и аккуратно осматриваюсь по сторонам: вроде бы никто не обратил на нас никакого внимания, ряженые экскурсоводы сидят, как сидели, а «полового» с подавальщиком вообще не наблюдаются.
– Успокойся, ладно, – говорю я тихо. – Я ничего такого не имел в виду.
Дон Москито закрывает лицо руками:
– Извини, Валер. Я просто зверею, когда об этом думаю…
«Да он, оказывается, нешуточный ревнивец! Хотя, я бы на его месте вёл себя так же. Или нет? В любом случае, его надо срочно как-то отвлечь…»
– Коль скоро речь зашла о живописи, – говорю я, – может, приобщимся к великому русскому искусству, благо оно у нас под боком.
Дон Москито улыбается уголками губ:
– Скорее, сверху.
– Искусство всегда сверху, Коля.
Улыбка становится шире:
– Ты прав, самое время приобщиться к русскому искусству! Я знаю, оно спасёт нас!
Я поднимаюсь и делаю характерный указующий жест рукой в сторону выхода:
– Вперёд, товарищи! На Врубеля!
– Врубель ещё жив? – подхватывает Дон Москито. – Добей его без пощады!
– Половой, счёт! – кричу я.
Экскурсоводы вновь нам аплодируют, на этот раз громче.
Несмотря на выходной день, в Третьяковке немноголюдно. Посетители – либо мамаши с детьми, либо молодые парочки, которым надо где-то скоротать время до похода в кино. Иногда попадаются туристы. Организованными стайками движутся они вслед за экскурсоводами, время от времени щёлкая шедевры русской живописи одноразовыми «Кодаками». От нечего делать смешиваемся с группой немцев. Пожилая экскурсовод с фиолетовыми волосами и огромной перламутровой брошью на груди произносит длинные фразы по-немецки, в конце каждой, добавляя: «Russische Kunst[8]». В ответ немцы одобрительно гудят. Продолжается это недолго – нас быстро вычисляют и начинают бросать в нашу сторону косые взгляды. Чтобы избежать международного скандала, отчаливаем.
Ходить по полупустому музею, да ещё в лёгком подпитии, приятно. Картины навсегда ушедшей русской жизни, лица с недоступной ныне глубиной взглядов, сжимающие сердце пейзажи… Мало того, что всё это до последнего мазка родное и с детства знакомое, буквально от каждого полотна исходит нечто, отличающее настоящее искусство от… ну, сами знаете, от чего. Нет, что ни говори, а русскому здесь хорошо. Не знаю, правда, как немцу…
У Тропининской «Златошвейки» мне вдруг вспоминается Настя. Портретным сходством тут и не пахнет, просто срабатывает какая-то ассоциативная связь, даже лень думать, какая именно. Одна за другой всплывают в памяти сценки нашего с ней странноватого знакомства, будто эпизоды старого, давно не смотренного фильма. Мне становится весело и грустно одновременно.
«Может, стоит к ней наведаться? – думаю я. – Просто так, узнать, как у неё дела… посмотреть, как там Тёмсик…»
– Ты чего тут застрял? – спрашивает свесивший голову через моё плечо Дон Москито. – Кого-то напоминает?
– Не совсем, – отвечаю я, отходя от портрета подальше, – просто память как мутная вода из фильмов ужасов: никогда не знаешь, кто и когда оттуда выскочит…
Дон Москито смеётся:
– Для того, чтобы ничего не выскакивало, человечество и придумало алкоголь.
Идём дальше. Из зала в зал, от эпохи к эпохе, из прошлого практически в современность. Тропинин, Боровиковский, Брюллов, Кипренский… Меняется век, меняется стиль. Чем ближе к нашему времени, тем острее я начинаю чувствовать безусловный максимум понимания и приятия того, что вижу. Репин, Верещагин, Серов, Саврасов… Вот он, мой идеал живописи. Вот что я понимаю под этим словом. Вершина, абсолют, совершенство…
В зале Крамского нам попадается интересная парочка: высокий немного нескладный молодой человек с длинными волосами и маленькая девушка с острым профилем. Девушка перемещается от картины к картине лёгкой рысцой; её спутник следует за ней медленной широкой поступью большого человека.
У «Христоса в пустыне» пара делает короткую остановку.
– Вот видишь, пустыня автору не удалась, и сразу Христос пропал! – констатирует девушка.
– Люд, ты уверена? – вопросом отвечает молодой человек. – А я ничего такого не замечаю.
Девушка делает оскорблённо-удивлённое лицо.
– Конечно, уверена! Мне же читали этику с эстетикой, я точно знаю, что красиво, а что нет!
Озадаченный молодой человек остаётся у «пропавшего» Христоса, видимо, в надежде понять, что там не так с пустыней, а девушка устремляется дальше. Неожиданно мне в голову приходит совершенно сумасшедшая догадка. Буквально долю секунды борюсь с нерешительностью, побеждаю по очкам и быстрым шагом устремляюсь за девушкой.
– Извините, – говорю я, догнав её у двери в следующий зал, – вы не подскажете, который час?
Девушка резко разворачивается на месте и впивается в меня тёмными, близко посаженными глазками.
– У меня нет часов, – отвечает она после быстрого осмотра моей физиономии, – не ношу.
– Отлично! – вырывается у меня. – Убеждён, что у нас с вами есть общие знакомые!
Девушка делает шажок в мою сторону и пристально вглядывается в моё лицо, видимо, стараясь разглядеть знакомые черты.
– Какие? – спрашивает она.
– Настя…
– Настя? – переспрашивает девушка. – Какая Настя? Рогачевская?
– Возможно, я фамилии не знаю, – говорю я, постепенно теряя уверенность, – она работает в турфирме «Волга»… на Изабеллу Росселини похожа.
Лицо девушки добреет:
– Точно, Настя Рогачевская. Мы где-то встречались? Я вас что-то не помню.
Облегчённо выдыхаю:
– Нет, мы не встречались, просто она мне вас очень точно описала.
Появляется её отставший кавалер. Покосившимся фонарным столбом нависает он надо мной справа.
– Какие-то вопросы, Люд? – спрашивает он девушку, недобро глядя на меня.
– Всё в порядке, Слав, – успокаивает она. – Молодой человек спросил меня, сколько сейчас времени, а оказался знакомым Насти Рогачевской.
– Половина второго, – невозмутимо сообщает кавалер, – ещё вопросы?
– Спасибо огромное, – кланяюсь я, отступая обратно к «Христосу», – не буду вас более задерживать. До свидания.
Люда делает мне на прощание ручкой:
– Привет Насте, сто лет её не видела.
Ещё раз кланяюсь в знак согласия.
Молодой человек, тоже кивнув в мою сторону, только небрежно, берёт свою всезнающую подругу под руку, и парочка удаляется в следующий зал. Через пару секунд оттуда доносится:
– …ой, Слав, не говори, у неё знакомые такие же чудные, как и она сама…
«На себя бы посмотрели, – думаю я, – а к Насте я теперь совершенно точно зайду – то был знак. Рогачевская, значит…»
– Чего замер? – вклинивается в мои рассуждения подошедший Дон Москито, – опять что-то всплыло?
– Всплыло, Коль, всплыло.
И вот, наконец, Врубелевский зал. Устало опускаюсь на стоящую в самом центре банкетку. Лёгкий винный хмель, создававший в голове иллюзию праздника, практически испарился. Но вот в чём фокус: окружающая меня красота блеска не потеряла. Видимо, на изобразительное искусство закон повышения женской привлекательности от дозы выпитого не распространяется.
– Тебе не кажется, что всё, что мы сейчас вокруг себя видим, написано буквально вчера? – спрашивает меня Дон Москито, присаживаясь рядом.
– Кажется, – отвечаю я, – но тут всё просто: этот зал недавно открыли после реставрации.
– Я не об этом. Не кажется ли тебе, что в его картинах много современного? Или, точнее, в картинах современных художников много из того, что мы видим вокруг?
Удивлённый, поворачиваюсь к другу:
– С каких пор ты стал разбираться в современной живописи?
– С недавних.
Дон Москито встаёт и делает несколько шагов в сторону, но тут же возвращается.
– Это Анюта с недавних пор стала разбираться в живописи, – нервно говорит он, – это она мне про Врубеля напела…
Я тоже встаю:
– Слушай, хватит себя изводить… ты ещё ничего не знаешь. Подумаешь, какой-то портрет! Она-то сама что о нём говорит?
– Говорит, что подарок… чёрт, как курить хочется!
– Чей?
– А вот чей, не говорит!
Дон Москито начинает прохаживаться взад-вперёд. В своём нынешнем прикиде он ужасно стильно смотрится на фоне «Принцессы Грёзы», но я не решаюсь ему об этом сообщить. Пусть лучше сначала остынет. Он не на шутку завёлся, это видно. Чувство собственника, будь оно неладно!