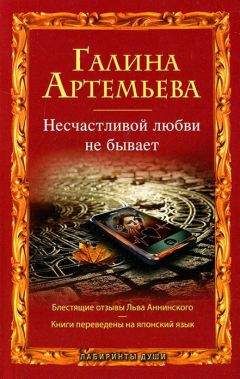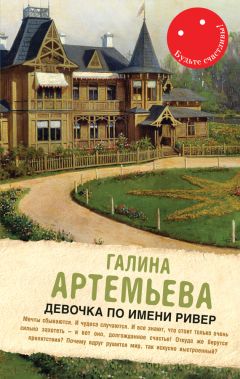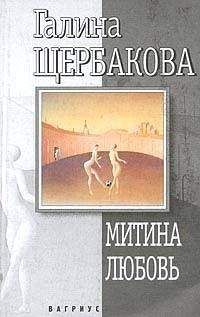Галина Артемьева - Чудо в перьях (сборник)
Он и не думал. Что тут думать, когда гости один за одним.
– Это ты, старшина? Эх, вот как довелось. Да ты не один, вон вас сколько! Что ж вы, ребята, за столько лет первый раз? А я как песню «Где же вы теперь, друзья-однополчане» слышал, все вас вспоминал. Простите ли вы меня, что я не с вами? Мне иногда кажется, будто я предал вас, что живу.
– Глупость говоришь, – отрезал старшина, сорокалетний приземистый дядька. – А дети твои от кого бы родились, ты подумал?
– Ты меня берег, старшина, думаешь, я не замечал? Мы сидим в окопчике, как обстрел, ты меня с переднего края с каким-нибудь делом отсылаешь, то на кухню, то еще куда.
– Эх, ды елки, там, что ли, пуля б не достала, если что? Ну и берег. У меня у самого сын, парнишка, как ты, восемнадцатилетний, на другом фронте воевал, может, его тоже какой старшой побережет, так я думал. Не уберегли. Они там, под Кенигсбергом, все одногодки были. Всех и закопали в одной могиле.
– А вас в Незамыслице, в Моравии. Я там был недавно. Памятник красивый, все поименно названы. И надпись знаешь какая? «Расскажи там, дома, что мы здесь лежим мертвые, как нам долг велел». По-чешски написано, наши бы не поняли, да и не бывают они там.
– А что потом было, где воевали?
– Потом вскоре объявили о капитуляции. Победа! Мы все обрадовались: живы! Четыре года пекла такого – и вот живы! Эх, заживем теперь, думали. А тут приказ идти Праге на помощь. Они по радио кричат, чехи: «Русские братья, на помощь! Русские братья, на помощь!» Они там под занавес восстание у себя в Праге устроили, ну, немцы недобитые их стали давить, кто ж поможет, чьей кровушкой землю полить не жалко? Русских братьев! Лучше бы нам о победе не объявляли! Тяжело было в бой идти, когда уже поверил, что войне конец, что подарена тебе долгая жизнь. И полегло там ребят наших… А я, видишь, цел.
Старшина отмахнулся:
– Опять ты за свое. У всех судьба своя. А дальше-то что?
– Дальше война уже совсем кончилась. Стояли мы на берегу реки, на другом берегу союзники. У них всегда музыка, веселье. Они нас с того берега зовут: «Давайте, мол, к нам». Но мы вели себя сдержанно, как подобает, хотя иногда весело было на разных языках через речку перекрикиваться. И ведь понимали как-то друг друга! Хотя по-английски у нас никто не умел, в школах тогда все немецкий учили. А с нашей стороны немцы через лес к реке пробивались: нас боялись как огня, все к союзникам попасть хотели. Мы их не трогали – плывите, хрен с вами. Лежачего не бьют, так ведь? И вот как-то большая группа фрицев выскочила и плюх в реку! К американцам поплыли. Ну, и мы чего? Плывите, не жалко! А союзники выскочили на тот, свой берег и всех до одного в воде перебили. Мы, конечно, тогда немцев не жалели, но сами бы так никогда не поступили.
– Папочка, к тебе Павлик пришел, настоящий, – позвала его дочка, и его однополчане посторонились, полюбовались его сыном и пропали.
А сын стал его соком поить.
– А где Хиштаки? – спросил он, напившись, ища глазами дочку.
– Да здесь я, – засмеялась она, – здесь я, хитрец ты мой. Ты давай, имя мое вспоминай. Ну, вспомни, какой у нас с тобой город был волшебный. Счастливый город. Там все жили: и поросята, и котята, и крот, и слоны с большими ушками, и зебры, и медведи. Мику мою помнишь? Она у медведей главная была, порядок у них наводила. А еще там у нас белка жила живая, ты ее из Вологды привез… И это был город весь мой. И ты мне подчинялся. Я могла орденами награждать за верную службу, у нас карта города была, красивая, ты начертил, и мы все новые улицы прокладывали и названия им волшебные придумывали. А город этот назывался… Ну, ты помнишь как?
– Я помню, помню. Вот оно, имя, тут. Не выговаривается только.
– Ну хорошо, хорошо, спи, мой маленький.
Через несколько дней он уже мог шевелить руками и ногами, только пальцы на левой руке еще не все слушались. Внук, студент-медик, делал ему массаж и говорил, что скоро все нормализуется…
В один из дней дочка не пришла. Он спросил о ней у жены. Та не была дочкиной мамой, она была его второй женой и всю их совместную жизнь ревновала его к прошлому.
– В больницу легла на несколько дней, кровотечение у нее какое-то, сказала – oneрацию несложную сделать надо. А может, устала от тебя, отдохнуть захотела, – равнодушно произнесла жена, не злой, в общем-то, человек, но с сильно развитыми собственническими рефлексами.
Он терпеливо ждал свою Хиштаки и старался вспомнить, как назывался их город и какое имя он все-таки дал ей, своей девочке. Он был уверен, что, когда вспомнит, сразу встанет и тогда сможет поехать к ней в больницу и помочь, и пожалеть.
– Ее ж пожалеть некому. Дети могут только бояться за нее, а сила-то вся от нас, старших.
Он помнил, как помогли ему приходы отца, как он снова захотел жить и поверил в свои силы.
В праздничный день двадцать третьего февраля весь день приходили к нему гости из этой, отсюдашней жизни. Он приустал, а на сердце тяжелым камнем легла тревога. Оставшись один, он попытался заснуть, но сон не шел. За окном что-то белело и двигалось.
«Наверное, снег пошел», – с тоской догадался он и поднял глаза к темному стеклу. Там стояла, зыбко переливаясь, дочка в бедной белой простыне.
– Здравствуй, П-павлик, – неуверенно начал он. – Тебя выписали?
И сам понимал, что ерунду говорит, что не оттуда она пришла, не через дверь появилась. Сердце страшно билось. Он должен был держать себя в руках, должен был дождаться ее ответа.
– Папочка, спаси меня, папочка, я, наверное, умираю. Они мне вчера операцию сделали. Веселые были, пьяные – и анестезиолог, и хирург, день предпраздничный потому что. Им все почему-то выпивку несут, как слесарям-сантехникам. Они мне плохо все сделали, папочка, а сегодня опять повезли в операционную. Я не хотела, а они сказали, чтобы я им праздник не портила и что они и спрашивать меня не будут. Я, кажется, умерла. Папочка, меня куда-то уносит, далеко-далеко. Папочка! Я забыла, как моих деток зовут! Я помню только, что люблю их очень! Как же они без меня, мои деточки? Как ты без меня, мой маленький?
Он собрал все свои силы. Он знал, что должен сделать.
– Нет, моя девочка, ты не умерла. И не умрешь. Тебе еще жить долго-долго. Ты же у нас глава самого счастливого города, и я помню, как он называется. Счастливый город Гагмагон. В честь тебя, моя Галенька, потому что ты, когда только говорить начала, Гагой Магой себя называла. Видишь, я все вспомнил, а завтра встану, как ты обещала, и буду жить долго, как дедушка. Но это только если ты здесь, со мной останешься. Ну, давай ручку, возвращайся, мое солнышко, жизнь моя, золотая моя головочка.
Дочка протянула руку, и он ухватился за нее крепко-крепко. И даже когда она исчезла, пальцы не разжал.
– Уф-ф, вытянули, – выдохнул хирург, – надолго этот праздничек запомню. Клиническая смерть… Второй случай за все время работы в клинике. Еще чуть-чуть – и поминки заказывай…
– Ошибка метода, Толя, не всем подходит, – сказала анестезиолог, сдирая резиновые перчатки.
– Пусть с ней эту ночь дочь в реанимации посидит. В порядке исключения. Умная девка, все почувствовала, еще вчера. «С мамой что-то не так, я знаю». Целый день повторяла. Видишь, права оказалась, чудеса… В общем, впустите ее, – распорядился хирург.
На следующее утро внучка уже читала ему записку от дочери: он хоть и мог теперь вставать, но читать еще не научился.
Одушевленный предмет
Медведь вырос не так, как ему было положено природой – не в вольном лесу, не с огромной теплой степенной матерью, которая бы всему научила и примирила с жизнью. Мать исчезла, когда он был совсем маленький и особенно остро нуждался в ней. Он знал, что происходит что-то совсем страшное, когда услышал не знакомый, не его домашний шум в лесу, учуял злой запах, услышал рык матери, предупреждающий о вселенской катастрофе, отгоняющий его от их счастливого дома. Он убежал далеко, сел за большое теплое дерево, притулился к нему, как к матери. Дерево его жалело, шептало что-то, навевало сон молодым запахом проснувшихся почек и юной листвы. Издалека доносились теперь до него звуки битвы: треск ломаемых большой медведицей сучьев, ее рыдающие крики, хлопки.
Потом все исчезло.
Прозрачная воздушная волна принесла мишутке – в последний раз – дух любви и счастья, смешанный с духом вечной разлуки. Он сел и заплакал, и дерево уже не смогло утешить его.
Его подобрали добрые люди, когда он уже не хотел ни любить, ни бояться, и плакал навзрыд о матери, как плачут, когда знают, что она никогда не вернется, даже если и услышит, даже если и захочет.
На людях плотно осела смертная тоска медведицы – значит, их надо было бояться, но сил не было, слезы все он выплакал. Он равнодушно лежал с открытыми глазами в мешке, куда его засунули цепкие руки добрых людей, до самого их жилища.
Потом он их полюбил. Не так, как любил мать – всем своим существом, бездумно, а с примесью несчастья и затаенного недоверия. Он был обласкан людьми, он играл с их детьми как равный, им гордились – такую игрушку ни за какие деньги не купишь, разве что в телевизоре когда увидишь. Или в зоопарке, в городе, за деньги, издалека.