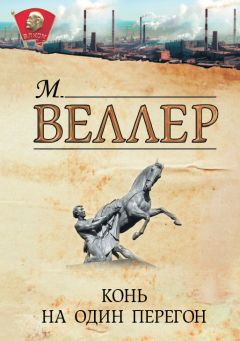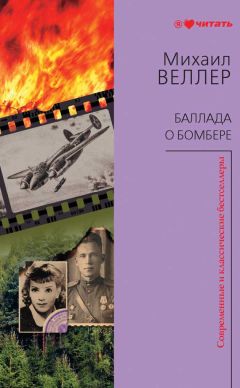Михаил Веллер - В одно дыхание (сборник)
Но иногда ему снился голубой город, ажурные набережные в текучих огнях, быстрый картавый говор, и тогда он просыпался угрюм, черен, не шел на работу, цедил дрянное разведенное пиво у ларька и дожидался открытия винного.
Жена раньше прихвастывала перед соседками редкостным мужем, теперь бегала к ним же на кухни, они всплакивали о судьбине и костерили алкашей, и от того, что у других так же, и ничего, живут, становилось легче.
Давно уже он не перешивал купленные костюмы, не выбирался по выходным «на пленэр», не покупал у знакомой киоскерши «Юманите», – он вкалывал, безропотно отдавал жене зарплату, утаивая на выпивку, и покорно принимал ругань и причитания после позднего и нетрезвого возвращения домой.
Он плелся домой мимо гостиницы, когда в его сознание проникло что-то постороннее, мешающее: странное. Он досадливо собрал хмельные мысли – и споткнулся, застыл в стойке, как голодный пес: донеслась французская речь! («Я волнуюсь, заслышав французскую речь», – вдруг завертелась в голове бешеная пластинка.) Трое мужчин и молодая дама вышли из «Волги», швейцар излучил радушие при входе, и, как горохом перебрасываясь быстрыми фразами, они проследовали внутрь!..
Неотвратимо, подобный ожившей статуе, Кореньков двинулся следом. Он будто со стороны отмечал, как совал деньги швейцару, администратору ресторана, официанту, как втиснулся за столик, что-то пил и чем-то закусывал, всем существом устремленный к тем четверым – они почти не пили, держались как-то по-особенному свободно, болтали, – и он почти все понимал: ужасные сроки согласования какого-то документа, длинные дороги, русские художники в Париже…
Они расплатились. Кореньков подошел, задевая стулья.
– Вы из Парижа? – отчаянно спросил он без предисловий.
Компания воззрилась, замолчав.
– О, вы говорите по-французски? – приятно улыбнулся один, носатый, без подбородка, похожий в профиль на доброго попугая.
– Иногда, – сказал Кореньков. – И что мне здесь с этого толку?
Французы рассмеялись вежливо.
– Мы не ожидали услышать здесь… – с нотками воспитанной отчужденности начала дама…
– Вы из Парижа? – повторил Кореньков, перебивая.
– Из Парижа, – подтвердил маленький, весь замшевый, шарик. И были они все чистенькие, промытые, не по-нашему небрежные. – А что, у вас особое отношение к этому городу?
– Ребята… – проговорил Кореньков, и голос его сел до сипа, шепота, мольбы. – Ребята, – проговорил он, – давайте выпьем. Вы не понимаете, что такое Париж.
Французы отреагировали весело. Возник администратор и стальной хваткой поволок Коренькова. «Т-те-бе чего, это иностранцы, вали, ну», – прошипел он.
Кореньков вцепился в скатерть:
– Господа, прикажите мерзавцу подать стул и прибор, меня заберут в милицию, помогите!
Неловко бросать почти знакомого в беде, – солидарность возникла: французы достойно загалдели, зажестикулировали.
– Этот человек – их гость, они его пригласили, – на чистейшем русском сказала дама; Кореньков сообразил – переводчица.
Официант неодобрительно обслужил.
Происшествие сблизило, наладился разговор, расспросы.
– У вас почти чистое парижское произношение!
Поаплодировали; чокнулись; изумлялись:
– И вы самостоятельно… Признайтесь: разыгрываете?
– Столько лет…
– Так почему вы давно туда не съездили?
– Вам бы наши заботы, – туманно ответил Кореньков; все-таки он был нетрезв.
Прекрасную сказку не могли омрачить мелочи: у входа его забрали дружинники, доставили в отделение, составили протокол о приставании к иностранцам, отправили в вытрезвитель; ха.
Утром он на удивление сиял среди измятых рож казенного дома, умолил не посылать бумагу на работу, оставил в залог часы и пропуск, схватил такси, занял денег, уплатил штраф и примчался к жене – устроил сплошной праздник: уборку, стирку, поцелуи, клятвы, песни и пляски. Его распирало, он летал, он парил над землей, в звоне серебряных колокольчиков.
Переводчица объяснила: теперь все реально. Есть «Интурист», есть ОВИР, турпутевки, поездки по приглашению; стоит это круто, но в пределах возможного.
Коренькова залихорадило. Он стал восстанавливать свою французскую библиотечку, слушать французскую музыку; и начал копить деньги.
Полюбил прогуливаться вблизи гостиницы, иногда посиживал в ресторане; еще дважды удалось свести знакомства – французы консультировали здесь строительство новой фабрики по их проекту. Последняя группа решительно отказалась признать его за русского, не нюхавшего Франции, и заподозрила, кажется, в провокации. А выказанное им доскональное знание Парижа просто поставило их в тупик.
– Вы могли бы работать гидом в Париже.
– Я попробую, – спокойно ответил Кореньков.
Зал за залом перечислял он коллекцию Лувра. Французы, переглянувшись, признались, что искусство – не их хобби.
– Видите ли, мсье, мы не посещаем Париж, мы в нем живем, а это совершенно разные вещи.
Ему обещали прислать приглашения, но пришло только одно. В соответствующем месте Коренькову разъяснили, что он практически незнаком с приглашающим, а годится лишь настоящее знакомство, длительное, с перепиской. Полтора года Кореньков переписывался с одним добрым шевалье, но приглашение почему-то не пришло…
А в другом месте ему после строгого внушения разъяснили, что такое его невыдержанное поведение может только навредить в случае оформления за границу: неясные контакты с иностранцами.
«Интурбюро» раскрыло, что путевки во Францию (поулыбались) приходят сравнительно редко, и распределяют их исключительно по профсоюзной линии.
Кореньков прикинул свой стаж, разряд, дисциплину. По собственному почину взял повышенные обязательства. После перевыборов сделался профоргом бригады. Он как бы пытался забить очередь, понимая проблематичность урвать столь лакомый кусок…
И однажды действительно пришла путевка во Францию, на двенадцать дней, стоимостью две тысячи сто рублей; но поехал замдиректора по коммерции – руководитель, с высшим образованием, ветеран…
Вышла замуж дочь, отложенные деньги ухнули на свадьбу: застолье, платье, первое обзаведение для молодых, – все нужно, как у людей, куда ж денешься.
Время летело, женился и сын, появились внуки, внукам хотелось делать подарки, жена все чаще прихварывала, рекомендовалось отправлять ее в санатории, и все требовало сил, времени, денег, денег, времени, сил…
А перед сном Кореньков закрывал глаза и думал о Париже – спокойно и даже счастливо. Так в старости вспоминают о первой любви: давно стихла боль, сгладились терзания, рассеялись слезы, и осталась лишь сладкая память о красоте, о потрясающем счастье, и вызываешь воспоминания вновь и вновь, они уже не мучат, как некогда, а дарят тихой отрадой, умилением, убежищем от тягостного быта, мирят с действительностью; было, все у меня было и останется навсегда. Он неторопливо шествовал с набережной д’Орсэ в зелень Булонского леса, помахивая тросточкой, молодой, хорошо одетый, бодрый и жадный до впечатлений, смеющийся, выпивал под полосатым тентом бистро стакан кислого красного вина, жмурился от дыма крепкой «Галуаз» и предвкушал, как кутнет у «Максима», разорится на отборную спаржу и дорогих плоских устриц, выжав на них половинку лимона и запивая белым, старого урожая вином, пахнущим дымком сожженных листьев и сентябрьскими заморозками. Он сроднился с утопией, достоверно казалось, что это на самом деле было, или наоборот – завтра же сбудется, и такое двойное существование было ему приятно.
А наутро к шести сорока пяти ехал на фабрику.
Ему было пятьдесят девять, и он собирал справки на пенсию, когда в профком пришли две путевки во Францию.
– Слышь, Корень, объявление в профкоме видел? – спросил в обед Виноградов, мастер из литейки.
– Нет. А чего? – Кореньков взял на поднос кефир и накрыл стакан булочкой.
– Два места в Париж! – сказал Виноградов и подмигнул.
Кореньков услышал, но как бы одновременно и не услышал, и стал смотреть на кассиршу, не понимая, чего она от него хочет. «Семьдесят шесть копеек!», – разобрал он, наконец, и все равно не знал, при чем тут он и что теперь надо делать.
– Да ты что, дед, чокнулся сегодня! – закричала кассирша. – Давай свой рубль!
Кореньков послушно протянул рубль, от этого поднос, который теперь он держал только одной рукой, накренился, и весь обед с плеском загремел на пол, эти посторонние звуки ничего не значили.
– Ой, ну ты вообще! – закричала кассирша. – Переработал, что ли!
В конце перерыва Кореньков обнаружил себя на привычном месте в столовой, под фикусом, лицом ко входу, перед ним лежали вилка, ложка и чайная ложечка. Стрелка дошла до половины, он встал и спустился по лестнице в цех.
На скамейке у батареи, где грохотали доминошники, выкурил сигарету, заплевал окурок и как-то сразу оказался в профкоме.
Там скрыли смущение: страсть Коренькова слыла легендой, а права у него, строго говоря, имелись… Толкнув обитую дверь, он нарушил беседу председательницы с подругой-толстухой и вперился в нее вопросительно, требовательно и мрачно.