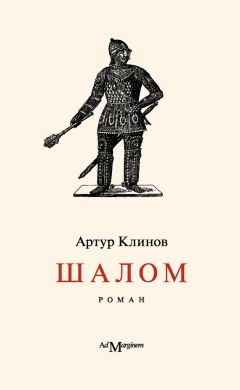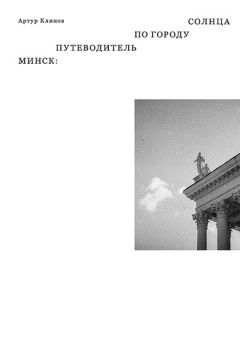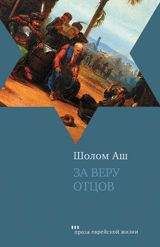Артур Клинов - Шалом
Что бы ни предпринимал Витек, желая утвердить в городе идеи акционизма, заканчивалось всегда одинаково – разборкой с ментами. Его художества были для них хулиганством, для случайных свидетелей – возмутительным безобразием, требующим наказания. Когда он переодевался в специально пошитый костюм зайца и демонстративно ездил в троллейбусе без билета, контролеры вытаскивали его и опять же вызывали милицию. Когда он в одних семейных трусах проповедовал в булочной благочестие, старухи шипели на него и изгоняли палками. Посидев несколько раз в ментовке, став рецидивистом во имя искусства, Витек стал осмотрительней. Его кураторы, критики и галеристы из Центрального РОВД всерьез задумались, не организовать ли ему пленэр в местной психушке.
Поэтому последние полгода Витек, стараясь не привлекать внимание зрителей, проводил для узкого круга радикальные акции только у себя дома. Но постоянная публика, предчувствуя что-то неладное, регулярно отправляла к нему с расспросами участкового. Теперь, чтобы ни происходило в городе: кража белья у Авдотьи Никитичны, взлом киоска на остановке или нападение на инкассатора, всегда среди прочих подозревали его. Витька так достало внимание зрителей, что он даже всерьез подумывал перебраться в Москву. Но хорошо заявить себя там он мог только с каким-нибудь новым радикальным проектом. Он постоянно думал про это, но приличных идей в голову не приходило. Поэтому, выслушав рассказ Андрэ о его манифесте, Витек пришел в совершенный восторг, перемешанный с едкой завистью.
– Ну, чувак, это полный пиздец! – выдохнул он, когда Андрэ закончил. – Ты не представляешь, какой это пиздец! Вот это идея! Только тебе нужно валить отсюда.
Витек так разволновался от услышанного, что вытащил из шкафчика заначку – полбутылки портвейна – и, громко стукнув, поставил ее на стол.
– Ты понимаешь, что здесь тебя эти уебки замучают, – он плеснул портвейн в чайные чашки. – Ты что, Христосик?
– Витек, одолжи денег.
– Нет, ты не понял! Если не менты, то твоя сучка Светлана в дурдом упрячет. Как жена она имеет право. Телегу накатает, приедет бригада из психушки, и знаешь, что-то мне подсказывает, что они ей поверят! А ты еще и фашиста замочил!
– Может, не замочил. Федор должен весточку прислать.
– Куда он пришлет? Тебе домой? Хочешь, чтобы Светка еще и про это узнала?
– На почту буду ходить. Попрошу, чтобы письмо мне лично в руки отдали.
– Я тебе говорю: валить, на хуй, в Москву надо!
– Так как на счет бабок?
– Какие бабки? Ты же видишь, я даже целую бутылку портвейна купить себе не могу!
Мария Прокопьевна слыла в городе человеком властным и правильным. С неба звезд не хватала, по служебной лестнице поднималась не быстро, но верно, получая новую звездочку на погон тогда, когда было положено. Она всегда точно знала, где, когда, кому и что правильно сказать. Когда нужно, шла в комсомол, потом в партию, затем в перестройку, а когда правильной верой признали православный атеизм, сказала себе, что Бог, видимо, есть, надела на голову шиньон в виде луковицы и принялась по праздникам ходить в церковь.
Ее послужной лист был типичным для правильных граждан: лейтенант-учитель, завуч-капитан, майор комсомола, подполковник РОНО – Районного отдела народного образования, полковник по хозяйственной части. Медленно, но верно обрастала она нужными связями с такими же, как сама, правильными людьми. Ей уже пророчили генеральскую должность – ректорство, и она почти получила ее, но откуда-то с неба свалился Фадеич – человек без заслуг, простой капитан, бывший директор небольшой сельской школы. Говорили, правда, что он лично знаком с Президентом – когда-то они росли по соседству и даже вместе играли в футбол. Поэтому, хоть Фадеичу и суждено было просидеть всю жизнь в капитанах, бывший товарищ по футбольной команде вдруг вспомнил о нем и усадил на генеральскую должность.
Мария Прокопьевна поначалу обиделась, но потом, смекнув, что фортуна вещь переменчивая – ведь не на выскочках, а на таких, как она, держится армия, тем более что футболистов на все генеральские должности все равно не хватит, – начала потихоньку прибирать Фадеича к рукам, так что вскоре уже трудно было сказать, кто на самом деле из них двоих был более ректором. Ни один вопрос Борис не решал без нее. Она была и душеприказчиком, и его альтер эго, ключницей и гадалкой на картах Таро. Поговаривали даже, что имелась между ними связь и более тесная. Правда, Марии Прокопьевне как женщине незамужней в ее службе это ничуть не мешало.
Мешало ей другое – ее неправильный зять. Она считала его человеком никчемным, тунеядцем и пьяницей. Но пока это было в рамках дозволенного, стиснув зубы мирилась. В конце концов, быть никчемным и пьяницей в их городе обычное дело. Но то, что он совершил теперь, переходило все дозволенные границы. Это было не просто возмутительно, а хуже, это был плевок в душу, удар по ее репутации. Он позорил ее, делал в глазах людей посмешищем. Ведь и так понятно, что он идиот, но смеяться будут с нее – уважаемого, правильного во всех отношениях человека. Она леди self made, проректор и будущий ректор, а может, и выше, а ее зять надел на голову прусский шлем. Это была агрессия, вероломное нападение. Фактически он объявлял ей войну. Он словно надел шлем не на свою, а на ее голову. Ведь в глазах людей это теперь она – Мария Прокопьевна, а не он – ходит по городу в пикельхаубэ.
Эта мысль терзала ее всю ночь. Шелом будто материализовался на ней. Так что, просыпаясь время от времени, она дотрагивалась до волос убедиться на всякий случай, что там его нет.
Дождавшись утра, Мария тут же отправилась в парикмахерскую. Обычно она носила на голове высокий златоглавый шиньон, но теперь в этом появлялась двусмысленность. Не желая иметь на себе ни малейшего намека на семейный позор, она постриглась, покрасила волосы в радикально черный цвет и сделала химию.
Когда Мария Прокопьевна появилась в университете, с новой прической она больше походила на фурию, а выражение ее лица – на влетевшую во время грозы в открытую форточку шаровую молнию. Так что студенты, попадавшиеся ей по дороге в ректорский кабинет, даже боясь поздороваться, опускали глаза, чтобы нечаянно не разрядить ее гнев на себя.
– Борис, ты должен немедленно это пресечь! – с порога, войдя в кабинет, заявила она. – Это позор! Это плевок мне в лицо! Задействуй все! Привлеки милицию, санстанцию, ветеранов, ОМОН, кого хочешь, в конце концов, Эдуарда, но сними с него эту дрянь!
– Чувствовал я, авангардизм до добра не доведет! – оторвавшись от бумаг на столе, произнес Борис Фадеич.
Он, конечно, был в курсе произошедшего, но поначалу, не придал этому факту большого значения. Считая Андрэ человеком немного блаженным, он на многое закрывал глаза. Вовсе не потому, что принимал его чудачества, просто он зять Марии Прокопьевны. То, что он явился на занятия именно в прусском шлеме, казалось немного странным, но Борис Фадеич отнесся к этому с пониманием. Он сам вырос в партизанских лесах, а потому любил трофеи и книжки про войну. Собственно, никаких других он не читал. Но Великая Отечественная была его страстью. Еще в свою бытность преподавателем в школе он водил следопытов по партизанским местам. Они раскапывали землянки, заросшие папоротником траншеи, чьи-то безымянные могилы, и вскоре Фадеич собрал неплохую коллекцию немецкой и отечественной амуниции. Кто-то даже считал его черным копателем, но когда он сделался директором школы, то большую часть трофеев передал в школьный музей, который стал его гордостью и главным утешением для души в скукотище сельских дней.
Когда же он перебрался в Могилев, то лучшее из коллекции забрал с собой. В университете партизанский музей он создавать не стал, но его любимым занятием сделался университетский театр, в который перешли собранные им трофеи. Ставили там с благословенья ректора, конечно, только пьесы про войну, немцев и партизан, но Фадеич был безмерно горд своим детищем, а главное, его реквизитом. Такого Шелома, как у Андрэ, там, естественно, не было, поэтому поначалу у Фадеича даже мелькнула мысль, не выменять ли его на старый Вальтер Р38 с кобурой или ППШ-41 без рожка. Но теперь, видя, как шаромолнеобразное лицо Марии Прокопьевны в обрамлении какой-то непонятной кучерявой прически угрожающе кружит по комнате, понял, что дело принимает серьезный оборот, и с тревогой спросил:
– Маша, а где твой шиньон?
– Борис, ты что, дурак? Ты не понимаешь, что происходит? Это диверсия! – шаровая молния так близко подлетела к его лицу, что он, в испуге немного отпрянув назад, воскликнул:
– Какая диверсия?
– Идеологическая! Ты знаешь, что будет, если об этом узнают там? – Мария Прокопьевна указала пальцем на большой живописный портрет Президента, висевший за ректорским креслом.
Борис побледнел. Мария Прокопьевна тоже вдруг потускнела. Маниакальный приступ паранойи с новой силой накатил на нее, и, словно почувствовав, что строгий всевидящий глаз с портрета видит ее сейчас в прусском Шеломе на голове, принялась нервно поправлять прическу.