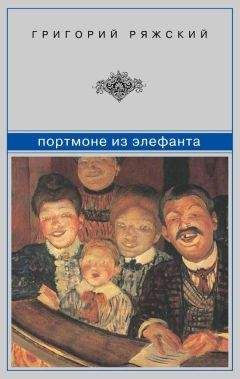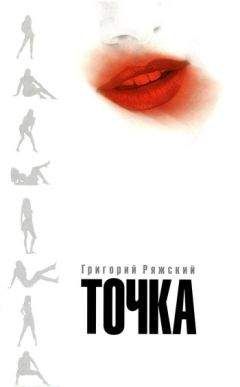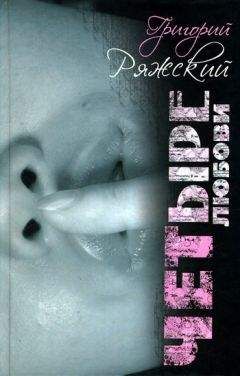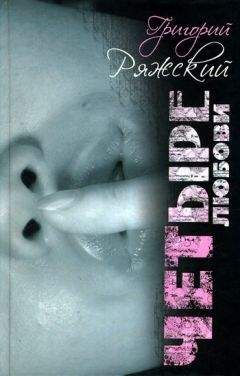Григорий Ряжский - Портмоне из элефанта (сборник)
– Двойной херр! – прыснул в кулак Гера и победоносно взглянул на Наташку. Вот тебе, мол, уже первые продуктивные моменты эмиграции…
О папином трудоустройстве напрягаться не было нужды – свежая российская действительность так глубоко взлопатила веками залежавшуюся в отечестве товарно-денежную перегнойную массу, что о постоянном пребывании с семьей и речи быть не могло – бизнес требовал жизни между «здесь» и «там», и на «там» приходилась большая часть года, теперь уже – четвертого.
Водить машину Наташка начала со второго месяца жизни в Германии – сразу хорошо и уверенно.
«Надо позвонить, чтобы масло в коробке поменяла, – внезапно вспомнил он, припарковав машину рядом с кладбищенскими воротами, – чтоб не подгорело…»
Он открыл багажник и вытащил оттуда сумку из кожзаменителя. Когда-то он купил ее в Париже, когда только начали выпускать за границу и денег еще не было никаких, а каких было – хватило только на нее, да и то на Блошинке – знаменитой парижской толкучке. Сумка уже давно поистрепалась, оказавшись из какого-то китайского эрзац-повторителя малазийского кожзаменителя, и последние доэмиграционные годы в основном предназначалась для перевозки на дачу шашлыка, замаринованного лично Геркой за сутки до его веселого поедания всей семьей, включая главную шашлычную попрошайку – лохматую Джульку. Сейчас шашлычная эта сумка содержала в себе печальный груз. В ней, бок о бок, находились: пустая литровая банка с крышкой из старых стеклозапасов, детский песочный совок, старая газета, читанный «Спид-Инфо» с голой эстрадной певичкой на обложке, пара пакетиков фосфалюгеля и завернутый в алюминиевую фольгу бутерброд с сыром – быстрое средство, чтобы снять при необходимости ноющие приветы от недавно напомнившего о себе осеннего язвенного обострения. Кроме того, в сумке тяжело перекатывалось главное – гипсовая урна с прахом Геркиной матери, Любови Петровны.
Герка закинул сумку на плечо и поежился. Вовсю шел ноябрь, и уже нормально холодило и подмораживало по ночам, а стало быть, земля должна была быть твердой. Но Герка не хотел оставлять это дело до весны, он хотел поставить завершающую точку в перенесенном им в течение последнего года ужасе медленного маминого умирания, одновременного с быстро прогрессирующим ее же сумасшествием.
Он резво пошел по главной аллее, выискивая глазами поворот к их участку… Кладбище было традиционно и исторически еврейским, и все мраморные оковалки торчали приблизительно одинаково, на одной почти высоте над уровнем кладбищенской земли, что говорило о примерно равной классовой и финансовой ассимиляции просочившихся в разные времена в столицу еврейских семейств. Лишь немногие из них не были зачехлены на зиму прозрачными полиэтиленовыми мешками, аккуратно перетянутыми снизу заботливой родней.
«Надо же, – в который раз отметил про себя Герка, – всегда здесь чистота и порядок – хоть сегодня ложись…»
Он свернул налево, к их участку, и через полминуты достиг своего черного оковалка. Вернее, их было три – по мере умирания ближней родни места для надписей на главном, центральном мраморном куске уже не хватало, и последовательно, с промежутком в пару десятилетий, были установлены еще два – по бокам и пожиже… В общем, теперь места умирать всем хватало, от пуза, хотя живой родни больше не оставалось – кто уехал, кто, умерев, так и не родил продолжателя фамилии – кандидата под камень.
Герка опустил на твердую подмороженную землю блошиную сумку, поднял к небу глаза и глотнул морозного воздуха.
…Как в ссылке мы в прекрасной преисподней
Бездомной и оставленной земли,
А день осенний света преисполнен
И холодом пронзительным залит…
Стихи свалились на него сверху, сами собой. Их лет двадцать назад написала его умная двоюродная сестра Ляся, назвав «Немецкое кладбище». А он тогда ни хрена в этом не понимал, с издевкой относясь к такому зарифмованному виду баловства, но когда, спустя годы, понял, то Ляся уже жила в Израиле и трудилась главным редактором газеты «Экзодус», выходящей на русском и иврите, и уже серьезно, без смеха, поговорить ему про стихи было не с кем. Он прослушал четверостишие до конца, и у него защемило за грудиной. Из левого глаза предательски, без предупреждения, выкатилась слеза и прочертила теплый мокрый след на холодной щеке. Правый глаз пока мужественно держал нейтралитет.
Ничего сынок, ничего… – со своей черно-белой овальной керамики, с самой нижней части могильного мрамора, отец, Борис Аркадьевич, смотрел на него внимательным и нежным взглядом.
«На центральном мне уже негде… – подумал Герка, завершив поэтическую минутку. – Придется на боковой идти. – Он сравнил глазами оба боковых камня и решил: – Налево пойду…»
«Сходить налево» – получилось каламбуристо, он немножечко хохотнул, отвел в сторону глаза и уткнулся взглядом в Борисоглеба Карловича. Со своей не зацеллофаненной еще на зиму цветной керамики тот смотрел на Герку строго и нахмуренно, не оценив невольную шутку по достоинству.
– Извиняюсь, Борисоглеб Карлыч! – Герка отвесил памятнику легкий поклон. – Я это не нарочно…
Борисоглеб Карлович Полуабрамович стоял здесь, на одинарном участке, соседнем с принадлежащим им двойным, уже очень давно, гораздо раньше, чем Герка появился здесь впервые, на годовщину смерти прабабки – Софьи Львовны. Никто и никогда не видел за долгие десятилетия кого-либо из его ухаживающей за могилой родни, но участок всегда поддерживался в надлежащем порядке, и это была одна из кладбищенских загадок. Впрочем, не меньшей загадкой оставалось для любознательного Герки происхождение этой странной фамилии – какое-то двойное сверхрусское имя с немецким отчеством и как минимум полуеврейской фамилией.
– Он больше всех подходит под местную анкету, – остроумно шутила Ляся. – Немец – по кладбищу, русский – по земле, еврей – по фамилии, полу… – по недвойному участку…
– Ишь, устроился… – шутливо реагировал Герка.
В ту пору он только подбирался к первому, пропускному шлагбауму для захода в зону острословия, того самого, правильного, генетического, которому специально не научишься и которое купить невозможно. Шлагбаум этот всегда точно и безошибочно рассортировывал людей на «наш человек» и всех прочих – хороших и плохих…
– Чьи бы ни пришли – он тут как тут… Ихний, – с удовольствием развивал он тему, затрагивающую этимологию соседнего участка. – Что ни говори – ценный сосед… Хотя имя Гера, с другой стороны, – продолжал он беседовать сам с собой, – тоже не пойми чего… – то ли Герман, то ли Герасим, пока еще они там разберутся…
Над тем, кто такие были «Они», он никогда не задумывался. Картина была ему ясна, начиная с раннего детства. «Они» не любили «Их» и скрывали это – кто тщательно, кто не очень. Его отец, Борис Аркадьевич, тоже попал на «нелюбовь» в своем институте, где, при невероятной трудоспособности и крепчайшем научном даре, не сумел преодолеть планку выше доктора технических наук и заместителя начальника отдела, имея научных работ – на академика, а заслуг и организационных достижений – на министра отрасли. Скорее даже, это была не нелюбовь, а абсолютная кадровая невозможность при общей к нему любви и уважении, включая сам отдел кадров и партбюро. Проработав в институте пятьдесят четыре года, отец «Им» этого так и не простил…
После развода с мамой Борис Аркадьевич не женился. Герка плохо помнил это время – он только входил тогда в сознательный возраст. Его воспитывала мать, Любовь Петровна, самая что ни на есть русская, рожденная в Тульской области. В те послевоенные годы отец был молод, энергичен и командирован в те края по какой-то технической надобности, что разрабатывал в неимоверных количествах для нужд своей угольной индустрии. На шахте, где он застрял на два месяца, внедряя чего-то умное, Люба была самой бойкой и привлекательной. В не объявленную в стране национальную политику партии и правительства она не слишком вдавалась, поэтому влюбилась в столичного инженера со всей деревенской преданностью и бесхитростной страстью, то есть – насмерть. Дело закончилось Геркой и возвращением из командировки с молодой женой. Дедушка – Аркадий Ефимыч – поначалу, увидав Любу, блеснул глазом, но после поджал губу и промолчал… Бабушка, Марьяна Борисовна, вежливо улыбнулась, болезненно держась за бок, но приняла невестку как положено…
Гулять темпераментный и искрометный Геркин отец начал вскоре после возвращения в Москву с молодой женой – примерно на четвертом месяце ее беременности. Но надо знать уроженцев земли тульской – родины шахтеров и пряников, самоваров и оружейников. Мама поскандалила лишь так, для пробы… Бабушка с дедушкой, будучи людьми высочайшей порядочности, продолжая глубоко, но тайно сожалеть о сыновьем выборе, приняли в супружеском конфликте сторону неприятной для семьи правды – невесткину и тут же, будучи заподозрены в хитросплетении необъяснимого с ее точки зрения такого их поведения не по-родительски, были обвинены во всех смертных грехах, включая ненависть по национальному признаку и вытекающее из нее подстрекательство к супружеским изменам и разводу. На этом Любовь Петровна не остановилась, ее столичный «обтес» в сочетании с наследной оружейной хваткой и природной самоварной смекалкой дал плоды, для приютившего ее интеллигентного еврейского семейства самые непредсказуемые. В развитие и раскрут означенного противостояния сторон полетело заказное письмо, адресованное очередному партийному съезду, возглавляемому Никитой Сергеевичем Хрущевым, с предложением об отчислении из партийных рядов недостойного коммуниста – в случае развода – и вынесении строгача с предупреждением – в случае покаянного возвращения его в семью… Результатом был развод, плюс выговор обычный, не строгач и без предупреждения, плюс многолетняя мамина ненависть к отцовой семье, что стала подлой их с Борисом разлучницей, плюс скрытная любовь матери к отцу вплоть до последнего дня ее жизни…