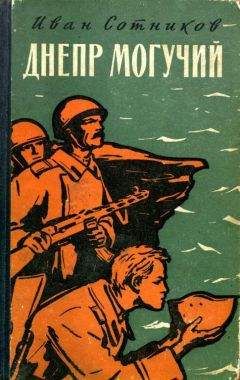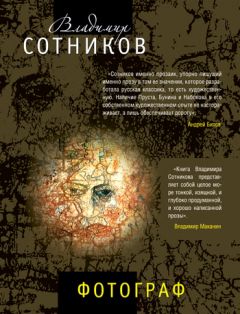Владимир Сотников - Улыбка Эммы
– А что?
– Да мало ли что. Знаете, как долго они там читают. Можно ускорить процесс. Поверьте, безо всякого видимого участия. Есть масса способов.
Я вдруг почувствовал, что сейчас просто уйду. Так я всегда уходил с комсомольских собраний, со всяких конференций. На меня накатывало онемение, и я выходил из зала.
– Ну что вы молчите? Есть что-то новенькое? Написали?
– Но это… мое дело. Только мое, понимаете? И вообще… Если надо, вызывайте на допросы!
– Да какие допросы! Что это с вами? Начитались, наверное? Сейчас другие времена. По-новому надо строить общество.
– Строить? В гостиницах, вот здесь, на лавочке? Элиту общества?
Я уже не мог удержаться:
– Человек, когда что-то делает, то это дело похоже на него! И вот эта ваша элита будет как вы.
Его глаза мгновенно похолодели.
– Щенок. Наверное, я ошибся. Жаль. Или не хватает тебе жизненного опыта. Что ж, Михайлов, подождем.
– Почему вы так меня назвали?
Я медленно начинал догадываться. Вот она, та самая пружина обмана.
– Ты сам так себя назвал.
Он встал.
– Что это я на «ты» перешел? Мы же еще не подружились. Да! Есть неприятная новость: для студентов отменяются отсрочки в армию. Мы бы могли посодействовать, дали б доучиться. Девушку жалко. Подумайте, зачем вам армия? Подумайте хорошенько. Бумажку с телефоном еще не съели?
Он ушел. Поспешно ушел, давая понять, что не хочет больше слушать всякие глупости.
Я сидел уставившись в землю. Не думал я, что встречусь с чем-то таким в своей жизни. Я же был сам по себе – за что меня так, мешком по голове. Из-за угла. Откуда? Откуда это зло? И вдруг я вспомнил свою фразу – ту, которую придумал, когда ездил домой. Случайность зла высекает из жизни необходимость добра. Я даже пожалел тогда, что сдал уже философию. У нас был хороший преподаватель, я бы поговорил с ним о соединении категорий случайности и необходимости как о соединении случайности зла и необходимости добра. Думал об этом в поезде, засыпая. А когда засыпаешь, даже обычные мысли кажутся значительными.
Уснуть бы сейчас и проснуться таким, как прежде.
Через месяц меня призвали в армию. С третьего курса.
Я расстроился, зато успокоился по поводу этих встреч – значит, от меня отстали. Торг не состоялся.
В армии я сразу почувствовал, что оказался в самом центре утраченного времени – его не надо было искать. Оно окружало меня. Я сопротивлялся тем, что думал. Так много и напряженно я не думал в своей прежней свободной жизни. Думал, будто говорил сам с собой, как будто выстраивал в очередь свои мысли – сначала одну, потом следующую… Я записывал все в письмах к Маше.
«Зачем поголовный призыв? Затем, чтобы ударить мешком по голове вчерашнего школьника, чтобы погрузить в грубость и тупость, чтобы сделать до конца жизни несвободным, оставив только инстинкты. Военное дело? Нас ему не учат. Оно занимает процентов пять времени. Остальное – животные взаимоотношения и бесконечное закапывание окурков. Целый участок на стадионе отведен для этого. Строем несут найденный окурок, копают яму метровой глубины и «хоронят» под хохот старослужащих. Еще не было дня без этого развлечения».
Крик души. Прямо «Поединок» какой-то.
«Сегодня я получил взыскание – три наряда вне очереди. Оказывается, я поставил под угрозу боеготовность роты. Дело в том, что ночью, проснувшись от каких-то звуков, я понял, то это плачет от холода мой сосед внизу – я сплю на втором ярусе. В казарме холодно, одеяла как сито, а двери кубрика нараспашку в коридор, в котором снег наметен из щелей. Я встал и закрыл двери. Оказывается, нельзя. Вдруг дневальный прокричит тревогу, а спящие в кубрике не услышат. Казалось бы, правильно, а на самом деле, глупость несусветная. Тогда в коридоре не должно быть стужи».
Зачем я писал это Маше? Почему впадал в эту жалобную ересь?
«Знаешь, как здесь разговаривают? Только «гы-гы». В прямом смысле. Усмехаются и говорят: «Гы-гы». Такая мода – спрашивать «гы-гы» и отвечать так же. И этого вполне хватает. Игра или защитная реакция? Всем кажется, что это смешно, но выглядит страшновато».
Мне стыдно за свои бесконечные жалобы. Но вот уже и хвастовство, и бахвальство:
«Ты не думай, мне совсем не трудно. Для деревенского человека здесь нет трудностей. К тому же я из тех белых ворон, которых трудно заклевать. Я еще тот папенькин сыночек. Как-то в самом начале меня попытались ударить. Я только отбил удар, но больше уже не цеплялись. Мы тренируемся в умывалке, обмотав руки полотенцами. Так вот, эту мою группу, человек пять, уже больше никто не трогает. Вот и от меня хоть какая польза. Но кажется, меня уважают все-таки из-за возраста. Разница в пять лет кажется этим ребятам огромной. Смотрят на меня как на дядьку».
И наконец мои нормальные слова:
«Ночью лежал на высокой своей кровати и смотрел в окно на дальние мерцающие в морозном воздухе огоньки. И подумал о том, что откуда-то, где нет времени, смотрит кто-то сейчас на меня».
Прошло полгода армии, и я наконец стал самим собой.
Вот тут они появились снова.
Дневальный вызвал меня в штаб, и полковой писарь молча отвел меня к двери без опознавательных знаков с тыльной стороны клуба.
За столом, освещенным настольной лампой, в полумраке сидел лысый старичок. Полковник.
– Если что, будешь приходить сюда без приглашения, но в такое же время, – не глядя на меня, сказал он.
– Если что?
Он посмотрел.
– Если будет что сообщить. Что офицеры говорят, что солдаты – кто поумнее. Ты что, не понял? В Ленинград съездишь. В отпуск. Это ж совсем рядом. Так что, Михайлов, будешь со мной работать.
Я все понял, конечно. С минуту помолчал. А потом, даже неожиданно для самого себя, сказал:
– А вот это, товарищ полковник, – …
Так к месту пришлось это короткое, как выдох, слово.
Я повернулся и вышел. Он кричал что-то там, за дверью. Но что он сделает? Накажет? Наказать меня можно только с ведома моего командира. Наш ротный, капитан Киселев, казался мне нормальным офицером. Интересно, как объяснил бы ему этот полковник, в чем я провинился?
Все обошлось. Пока обошлось, думал я. Опять в меня вселились тягостные мысли. Почему эти люди выбрали меня? Как они выбирают? Может, я чего-то в себе не знаю? И как же с этим я буду писать, говорить с отцом, с Машей, просто жить?
Мы выехали на учения. В армии это как водяное перемирие в джунглях, потому что появляется осмысленное занятие. Исчезает деление на молодых и старых, никому и в голову не приходит хоронить окурки.
И жизнь в лесу меня радовала – я соскучился по деревьям, по дыму костра.
Меня удивляло, что именно на учениях солдаты просили меня придумать для их писем девушкам какие-нибудь душевные фразы. «Чтобы она почувствовала», – говорили они. Скольких я так обманул?
На нашу точку приехала комиссия. Я как раз колол дрова для кухни на небольшой полянке рядом с лагерем. Из аппаратной выскочил командир взвода, построил всех, доложил. И вдруг я узнал в одном из приехавших офицеров Вадима Вадимыча. Хоть это и не похоже было на правду, но я не сильно удивился. Ведь даже в какой-нибудь старой коряге мне иногда виделась его ухмылка.
Вот и он, подумал я безо всяких уточнений – каким образом, откуда? И он, скользнув по мне взглядом, будто дал понять: а как же иначе?
Нам скомандовали разойтись, и я вернулся к своим дровам. Взялся опять колоть, хотя раз за разом промахивался. Вот он подошел, присел рядом на чурбачок, огляделся, нет ли кого-нибудь рядом.
– Освоились? Даже дерзите старшим офицерам. Это совсем ни в какие ворота…
Это он о полковнике, понял я.
Я молчал и думал, как бы и ему сдерзить. Но не знал, что сказать. Волнение было такое, что руки тряслись.
– Молчите? Ну что за несговорчивость такая? Там девушка ждет, а ей карьеру надо устраивать, преподавать. Куда она пойдет?
– Девушка тут ни при чем. Я, кажется, дал понять, что у меня с вами ничего общего.
– Ну как это ничего? Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, как говорится. Надо это осознать. Когда вернетесь, придется ведь жизнь устраивать.
– Без вас.
– Не получится. От нас так просто не уходят.
Я глянул на него, как будто впервые увидел.
– Я не был с вами!
– Ну как же не были? Я характеристику на вас хорошую составил. Приложил к расписке.
Лучше бы он не говорил это. Может, так бы и препирались дальше. У меня перед глазами мелькнули белые бумажки, и я с каким-то яростным вдохом замахнулся топором, словно стремясь разрубить их. Он испуганно отшатнулся. Может, решил, что это я на него?
Мгновение остановилось, я увидел перед собой распластанную на чурбаке кисть руки, на которую опирался, и ударил по ней. Судорожная боль, как когда-то при ударе молнии в эту же руку, сковала ее. Я увидел отскочившие пальцы и услышал противный тоненький писк. Это пищала кровь, разлетаясь струйками, как из прорванного шланга. Два пальца прыгали по траве, сгибаясь. Третий висел на коже. Я поднял почему-то один, сунул в карман… Боль заставила сжать левую руку правой, прижать ее к себе, согнуться всем телом.