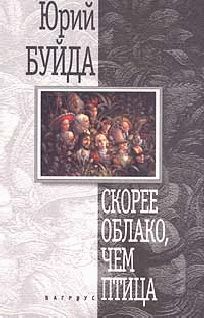Юрий Буйда - Яд и мед (сборник)
То Рождество Алексей Алексеевич встречал в поместье с Катенькой и Настенькой – они дружили, невзирая на разницу в возрасте.
Евгения Георгиевна Вольф энергично командовала подготовкой к празднику.
Одноглазый управляющий Иван Заикин по прозвищу Предмет, называвший себя чистопородным стариком, руководил забоем тридцатипудовых тамвортских свиней. Катенька и Настенька прятались в амбаре, чтобы посмотреть, как зверовидный Иван пьет свежую свиную кровь.
Князь с егерями устроил салют из двух трофейных четырехфунтовых шведских пушек.
На Святках катались в санях, объезжали соседей с поздравлениями, с шампанским – тогда-то Алексей Алексеевич впервые попал в поместье Яишниковых.
Заброшенное, бедное и грязное, оно производило жалкое впечатление. Помещичий дом с облупленными колоннами, разномастной мебелью и вонючими сальными свечами. Пьяненькая брюхатая баба с наглой ухмылкой, которая проводила гостей в темную гостиную с обшарпанным роялем в углу. Нетрезвый хозяин дома – Семен Семеныч Яишников, отставной поручик, во фраке кирпичного цвета, в распахнутой на груди нечистой рубахе. Сначала он рассыпался в извинениях и предложил гостям какой-то гадкой настойки, потом вдруг взял Алексея Алексеевича под локоть и шепотом – «по-соседски, ваш сиятельство, по-соседски» – стал рассказывать о покойной жене, с которой он благополучно прошел «чрез множество благоключимств», да вот супруга перестаралась с терпентином – она пила его трижды в день – и преставилась в мучениях…
– Терпентин… это же скипидар? Зачем же она пила его? Это ж, кажется, яд… и запах…
– А для запаха и пила, – сказал хозяин. – От терпентина, ваше сиятельство, женская моча благоухает розами. А это младшенькая моя – Софочка…
Софочка поразила младенческим своим молочным лицом, детскими губами и вполне зрелыми женскими формами, поразила взглядом – насмешливым и даже презрительным, но при этом она так мило шепелявила, так смеялась, показывая неровные жемчужные зубки, а когда Алексей Алексеевич поймал ее страдальческий взгляд, брошенный на отца, то понял, что не может оставить ее здесь, среди этой тусклой мерзости, среди этой унылой обшарпанности и облупленности, и был рад, когда Катенька и Настенька в один голос стали просить Софочку ехать с ними, и был счастлив, когда она согласилась, и это чувство только усиливалось, когда они мчались в санях через роскошный зимний лес с факелами, Настенька весело кричала: «Волки! Волки!», Катенька смеялась, а Софочка вдруг взяла Алексея Алексеевича за руку и прижалась к его плечу, и когда они влетели в ворота, украшенные еловыми ветками и фонариками, ударили шведские пушки, и Софочка посмотрела на него снизу вверх и сказала своим божественным детским голосом, чуть задыхаясь и шепелявя: «Сердце мое»…У князя Осорьина-Кагульского случались приступы апноэ, внезапные остановки дыхания, после которых он долго не мог вспомнить о том, что произошло накануне. Два-три дня старик не выходил из своего кабинета, никого не принимал: ему было стыдно за то, что он – пусть не по своей воле, пусть ненадолго – потерял себя, свое место во вселенной. Князь принадлежал к поколению людей, которые ходили к ранней заутрене лишь затем, чтобы нагулять аппетит, но именно приступы стыда в конце концов и загнали могучего старика в могилу.
Апноэ – вот что случилось, когда Алексей Алексеевич впервые увидел Софочку, когда, глядя на него снизу вверх, она сказала: «Сердце мое», когда он после ночного застолья – Катенька и Настенька уже легли – вдруг отшвырнул сигару, чертыхнулся и бросился в комнату Софочки, и не успел постучать, как дверь распахнулась и Софочка кинулась ему на шею, и он, все еще чертыхаясь, задыхаясь, стал срывать с нее одежду, а Софочка с него, а потом он впился губами в ее плечо, в шею, ниже, еще ниже, где пахло скипидаром, и они схлестнулись, упали, забились в припадке, хрипло дыша и не щадя друг друга, кусаясь и брызгая слюной, рыча и стеная, когда, наконец, животная дрожь объединила их, плачущих и опустевших, и Софочка прошептала: «Алешенька… белямишенька мой», и он прижал ее к себе и сказал: «Да», и они затихли, превратившись в одно целое, в безмозглое и счастливое ничто, – да, это было апноэ, амок, это было помрачение ума, это был стыд, через который Алексей Алексеевич не мог переступить и не хотел, как ему казалось той ночью…
На следующий день он завтракал у себя, никого не принимал, боясь встретиться взглядом с дочерью, с Настенькой, с Софочкой, и не выходил из кабинета до вечера.
«Будь что будет, – говорил он себе. – Это непоправимо, и будь что будет».
Он сидел за письменным столом, тупо глядя на чистый лист бумаги, но не мог даже дневнику доверить свои мысли и чувства. Он верил в Бога, а потому понимал, что дьявольского в человеке больше, чем ангельского, но никогда еще ему не приходилось переживать эту мысль физиологически. Вспоминал свой первый бой, когда он, молодой совсем офицер Алексей Осорьин, повел своих солдат в штыковую атаку под огнем противника, шел с саблей в правой руке и пистолетом в левой, ничего не видя перед собой, ничего не чувствуя, кроме гвоздя в сапоге, а потом вдруг увидел бегущих навстречу людей с тупыми лицами, и внезапно страх ушел, прорвало, и нахлынула бесстыжая радость, и он бросился на врага, выстрелил, ударил, весь захваченный божественным ликованием, крича «Жив! Жив! Я жив!» и убивая направо и налево, не думая о смерти, вдохновленный грязным и грозным Эросом войны, и это и была любовь – безжалостная, всепоглощающая и безумная, и казалось, что больше ему никогда не пережить этого чувства, потому что сгореть дотла можно только раз, но минувшей ночью он снова пережил все это, и снова остался жив, и снова его тошнило, как после первого боя, и снова ему хотелось ослепнуть и оглохнуть от невыносимого стыда…
Он думал о Софочке, о ее доме с обшарпанным роялем в углу, о ее покойной матери, которая пила скипидар, чтобы моча пахла розами, о ее гаденьком отце, который наверняка скоро появится в осорьинском имении, чтобы попросить взаймы, делая вид, что это не плата за дочь, а просто – деньги в долг, по-соседски, ваше сиятельство, по-соседски, и князь, конечно, даст денег, трясясь от омерзения и не подымая глаз на негодяя, и чем это кончится – бог весть, и снова думал о Софочке, которая в свои четырнадцать лет вела себя в постели как опытная женщина известного пошиба, играла телом и детским голосом с таким искусством, так ловко, так натурально – у Алексея Алексеевича и мысли не возникало о фальши, обмане, да и не было ни фальши, ни обмана, когда они схлестнулись, упали, забились в припадке, хрипло дыша и не щадя друг друга, кусаясь и брызгая слюной, рыча и стеная, когда, наконец, животная дрожь объединила их, плачущих и опустевших, и Софочка прошептала: «Алешенька», и вдруг ему снова захотелось услышать этот ее шепот, почувствовать этот ее скипидарный запах, провести кончиками пальцев по ее клейкому и кислому от пота животу, и он схватил колокольчик и бешено затряс, мыча от нетерпения и притопывая ногой…
Вышло все именно так, как и предполагал князь Осорьин. Уже на следующий день Яишников попросил денег взаймы, и Алексей Алексеевич дал, трясясь от омерзения, а потом давал еще и еще, лишь бы ничто не мешало встречам с Софочкой. Катенька посматривала на отца с недоумением, Настенька плакала. Он понимал, что это безумие, но дня прожить не мог без этой распутной девчонки. Оставаясь один, он давал себе слово порвать с Софочкой, но стоило ей оказаться поблизости, как способность мыслить тотчас уступала место желанию, чистому, как огонь, животному желанию.
Не прошло и месяца, как отношения их изменились. Софочка перестала выбегать навстречу Осорьину – теперь она ждала в своей комнатке, когда он поднимется к ней и будет умолять о поцелуе. Для таких случаев вечно пьяненькая беременная баба постелила на полу в Софочкиной комнатке турецкий плешивый коврик, «чтоб коленкам было мягче», и этот унизительный коврик злил Алексея Алексеевича, который, однако, покорно опускался на колени и просил о снисхождении. Софочка не скрывала скуки, зевала, капризничала, не давалась, и Осорьин впадал в отчаяние, сердился, а то и вовсе хлопал дверью и уезжал, бегал по своему кабинету, ругал себя ругательски, чертыхался, потом не выдерживал – снова садился в возок и мчался к ней, и вдруг она выбегала к нему – босая, растрепанная, заплаканная, прекрасная – и с жалобным криком бросалась ему на шею, и он тотчас прощал ее и просил прощения, и как же они терзали друг дружку после этого, как же любили, и как же потом князь Осорьин ненавидел себя…
Алексей Алексеевич запутался. Он не знал, как избавиться от Софочки: она хотела стать княгиней Осорьиной, хотела ребенка, хотела в Петербург, грезила балами и водами, и все чаще Осорьин впадал в отчаяние. По вечерам он с мрачным видом выслушивал доклады чистопородного старика Ивана Заикина и пил коньяк.