Юрий Буйда - Кёнигсберг
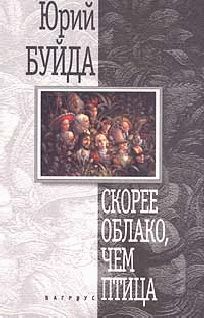
Обзор книги Юрий Буйда - Кёнигсберг
Юрий Буйда
Кёнигсберг
Am fernen Horizonte
Erscheint, wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Tьrmen
In Abenddдmmrung gehьllt.
Heine.{На дальнем горизонте,
Как сумеречный обман,
Закатный город и башни
Плывут в вечерний туман.
Гейне. (Перевод А. Блока.)}1
Каждую субботу Вера Давыдовна Урусова доставала из крошечного кошелька строго определенную сумму и выдавала своему мужу Максу, который уже был одет по всей форме — в кителе с золотыми шевронами на рукавах и фуражке офицера торгового флота, которую он долго и тщательно выравнивал на аккуратно вылепленной седой голове. Поцеловав мужа в щеку, холодно пахнущую недешевым одеколоном, она запирала за ним дверь и, выждав минут пять-десять, отправлялась на балкон, в укрытие, сооруженное из старых зонтиков и ветхой брезентовой куртки. Отсюда ей было хорошо видно, как Макс, быстро шаркая начищенными старыми башмаками и то и дело проверяя, правильно ли сидит фуражка, присоединялся к мужчинам, пившим пиво у известного всей округе киоска на углу улицы Каштановая Аллея. Вера Давыдовна боялась, что Макс попадет под трамвай, пролетавший всего-то в пяти-семи шагах от киоска с узким окошком, в котором смутно белела фартуком продавщица по прозвищу Ссан Ссанна (ее звали Оксаной Александровной, но к вечеру, после десятка кружек пива, да еще с водкой, язык слушался ее плохо, да и отвечала она подчас глухим голосом из угла, где стояло эмалированное ведро с сиденьем от унитаза, колокольно звеневшее и ухавшее в ответ на ее усилия) и было понаставлено множество деревянных одноногих столиков с крышами-зонтиками из покоробленного дерева. Макс, придерживая одной рукой фуражку, с кружкой бродил между столиками, пока не находил пристанища либо в компании бичей — списанных на берег за провинности моряков, — либо в обществе студентов из ближайших общежитий.
Бичи шумели и пили пиво с «мальком», разливая водку в кружки, и на спор выжимали из опорожненной бутылки последние капли. Чемпионом был огромный молчаливый парень по прозвищу Неуловимый Джо с вытатуированным на лбу пауком: он выжимал из пустой бутылки ровно тридцать три капли.
Неуловимый Джо, Музон, Старина Питер в бескозырке без ленточек, которую он носил даже зимой, да неразлучная пара, Дима и Сима, — вот, пожалуй, и весь постоянный контингент, зимой и летом норовивший выпить на халяву, но лучше с водкой. С другой стороны улицы, напротив угловой парикмахерской, зимой и летом за ними молча наблюдал тощий, как собственная тень, Андрей Сорока, тоже бич, но при деле: он работал кочегаром в студобщежитии, а когда отопительный сезон заканчивался — куда-то исчезал. Все знали, что когда-то он ходил на одном судне с Максом, но это и все, что о нем знали. Их большой морозильный траулер затонул у шведских берегов во время шторма, и многим были памятны грандиозные похороны, ползущие один за другим катафалки и тупо-напряженные лица милиционеров, которые по приказу начальства делали вид, что ничего экстраординарного не происходит: хоронят сразу девяносто моряков во главе с капитаном, погибших из-за дурости наших властей, запретивших терпящим бедствие принимать помощь от капиталистов. Андрей выжил в ледяной воде, но после скандала с начальством был списан на берег и быстро оказался на дне, без семьи и жилья (с осени до весны он и жил в кочегарке).
Макс был штурманом на том траулере. И он был единственным, кто приходил сюда каждую субботу в семь вечера. Пятьдесят две субботы в год. Ни одной пропущенной. Выпив пива или водки, он нюхал баранку — вечную закусь, пришитую к изнанке лацкана, — и начинал что-то рассказывать на своем тарабарском наречии безумца, которого никто не слушал, потому что разобрать в его булькающей речи отдельные слова стоило немалого труда, а кто ж из бичей или случайных любителей пивка станет трудиться, чтобы понять сумасшедшего. Завсегдатаи, впрочем, знали, что Максу нельзя перечить и вообще беспокоить, чтобы не вызвать у него припадок ярости со слезами, переходящий в эпилептический. Поэтому ему отвечали подчеркнуто дружелюбно и соглашались со всем, что он говорил. Постепенно Макс успокаивался, сникал, и тогда Вера Давыдовна покидала свой наблюдательный пункт на балконе и уводила его домой. Иногда она кивком здоровалась с Андреем Сорокой, который, едва завидев ее, непременно вставал, чего он не делал даже тогда, когда Ссанна, после закрытия киоска, просила его об одолжении: он просто движением подбородка разрешал женщине спуститься в кочегарку, откуда она выбиралась через полчаса-час, раскрасневшаяся и взмыленная, но довольная.
Вера Давыдовна брала мужа под руку, и он послушно выпрямлялся и следовал за нею, всякий раз, однако, бросая публике одну и ту же фразу:
— A moveable feast. И пусть не кончается.
Странно, но английскую часть фразы — о празднике, который никогда не кончается, — он выговаривал довольно внятно, тогда как русскую мы разобрали только с третьего или четвертого раза.
Тогда-то нас и позвал Андрей Сорока.
Прихватив недопитое пиво, мы присоединились к кочегару.
— Не обижайте его, ребята, — сказал он невыразительным голосом человека, отвыкшего от общения с людьми. — Он Божье дитя.
— Ты веришь в Бога, Андрей? — спросил Гена Конь, осторожно пристраивая свой стодвадцатикилограммовый круп рядом с кочегаром. — Или так, к слову пришлось?
— Не верю. Просто я люблю Его. Хотя и не знаю ни одной молитвы. Наверное, потому и люблю, что не знаю о Нем ничего. — Он с хрипом вздохнул. — Да и не осталось у меня никого, кроме Бога и Макса.
— А Вера Давыдовна? — спросил я. — Святая? Говорят, она больше десяти лет ухаживает за ним и за все эти годы никому никогда не жаловалась на жизнь. Она похожа на ожившую статую… я хочу сказать, в лучшем смысле…
— Не святая, — сказал Андрей без выражения. — Жена. И просто Господь Бог для него. В женском обличье, конечно. Никто ведь не знает точно, какого Он пола. А Макс… Он же офицер. Мужчина. Чего тут слезы с соплями жевать? Мужчины уходят в море и иногда не возвращаются. Вы же не видели океана в шторм. И жены моряков не видели. И как смывает человека за борт в ледяную воду, в которой самый здоровый здоровяк погибает через три-четыре минуты. Ну — через десять. От переохлаждения.
— Похоже, вы любите еще и Хемингуэя, — предположил я.
— А, вы про это… A moveable feast. Когда-то мы играли в его игру, это правда. Для многих она кончилась плохо. Как и для самого Хемингуэя. Я не брал его в руки давно. А когда снова взял, уже после того случая у шведского берега, меня чуть не стошнило. Видели мемориал на городском кладбище? Девяносто стел с портретами и именами. Родственники погибших каждый год — и вот уже который год — разбивают молотком портреты капитана и старпома. Третьим мог бы стать Макс. Ему здорово повезло: его портрет не разбивают молотком. О каком празднике можно говорить? — Он скривился. Дайте закурить, что ли. А фуражку Макс сберег. Я свою выбросил. В топку бросил. Сгорела, как бабочка. Да у меня в топке даже дерьмо сгорает, как бабочка. Вдова капитана и старпома каждый год восстанавливают портреты погибших мужей, а другие приходят и разбивают их молотками. До сих пор. Я был офицером. Если бы погиб, мой портрет тоже разбивали бы… У нас под килем не было даже трех футов. Я не хочу быть похороненным на этом кладбище.
— Умирать вообще невесело, — утешил его Конь.
— Мы живы, пока бессмертны, — сказал я, глядя себе под ноги — от смущения. — Так говорил мой покойный отец.
— Странно, — задумчиво пробормотал Сорока.
— Что? — спросил Конь.
— А когда подумаешь, все ясно, — сказал кочегар.
Мы поделились с ним табаком и попрощались.
Сухопарый Андрей Сорока, бывший стармех большого морозильного рыболовного траулера, и Гена Конь, который при своих двух метрах двадцати был центровым сборной Белоруссии по баскетболу, любили музыку и ножи. Гена даже подарил Андрею свой нож, выкованный из рессорной стали и украшенный наборной ручкой с медной звездой на торце. Это была память о службе в военно-морских силах. Нож был так велик и страшен, что Гена хранил его в коробке из-под большой готовальни, рядом с боевым орденом, полученным неизвестно за что. По праздникам Гена надевал его под рубашку, "чтоб народ не пугать и не смешить". Единственное, что я знал о его флотском прошлом, так это факт службы в отряде адмирала Захарова и краткосрочном пребывании где-то "южнее Кипра" (спустя двадцать пять лет стало известно, что адмирал командовал созданными им же флотскими отрядами водолазов-диверсантов, но в своих интервью ни разу не упомянул о каких-либо боевых операциях).
Впрочем, музыку они любили больше.
Тихими вечерами Андрей выносил из кочегарки аккордеон, и они по очереди играли с Конем, а бичи пели про берег турецкий, про жену французского посла и про Запад, где не пот — а запах, и прочие глупости. Макс подпевал без слов. И пока звучал аккордеон, бичи были другими людьми. Они не становились лучше, и никакого просветления на их лицах и в душах не случалось, — просто они становились людьми, чья жизнь не сводилась к погоне за длинным морским рублем, но и видевшими другой мир, наблюдавшими океанские закаты, эти вселенские пожарища вполнеба, когда человек, вцепившийся руками в поручень суденышка, переживал — не мог не переживать божественное и даже, может быть, болезненное чувство высокой любви, отчаяния и одиночества, но главное — любви, позволявшей и самому распоследнему негодяю хоть на несколько мгновений — чаще против его воли возвыситься до полного, без остатка, растворения в Творце, творчестве и творении…



