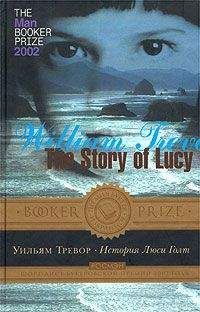Александр Товбин - Приключения сомнамбулы. Том 2
Захотелось высвободиться из мрака.
что там, на солнечной стороне?В «Авроре», судя по афишам, показывали «Зеркало».
– Бокалы вздрогнули в руках, раздался тонкий нежный звук, – обнажая дёсны, радостно подпевала зазвучавшим по радио «Брызгам шампанского».
Мимо «Авроры», возвышаясь, как всегда, на голову над прохожими, вышагивал хмурый, никого и ничего не замечавший по сторонам Довлатов, не подозревал, что шагает к громкой посмертной славе. Да, история – это тротуар Невского проспекта, – заулыбался Соснин и вспомнил, что всерьёз обещал скинуть на факс условия… – опять заулыбался дурацким мыслям, но тотчас увидел бритую голову в луже крови, прочь, прочь.
– Этой волшебной ночью, – допела любимое танго, – а вы сам не свой, Илья Сергеевич, глаза грустные-грустные, мысли о суде мучают?
Ну да, послезавтра суд, но как безразличен сейчас был ему этот надвигавшийся суд, как безраличен; в затылок горячо дышал Бит.
– Литературная общественность отметит сегодня столетие… – заговорило радио, – Герман Гессе, великий писатель-мыслитель и гуманист, был…
– Какое сегодня число? – решил перепроверить себя.
– 2 июля, – удивлённо посмотрела Жанна Михеевна.
Хорошо ещё, что не спросил какой год, – подумал Соснин.
– Год-то хоть помните? – подмигнула Жанна Михеевна и, качнувшись, ласково руку тронула, дала понять, что сочувствует, – да, год 1977‑й, юбилейный, но не только вам достаётся, мне тоже велели на службе декабрьский отчёт к юбилею сдать.
Кивнул, постарался сымитировать благодарность.
– Фемида смилостивится, не могу поверить, что за окошко жалкое пострадаете. Не верю, не верю! Хотя и Владилен Тимофеевич нервничает, такую тяжесть несёт, такая на нём ответственность. Будьте откровенны, Илья Сергеевич, дома-угрозы могут свалиться? Неужели всё, что понастроили вдруг повалится… и что тогда с нами будет? Я Владилена Тимофеевича убеждала – День Здоровья, отдохни на воде, нет, бумагами портфель набил, а завтра, в воскресенье, ещё должен готовиться к Президиуму Юбилейного Комитета. И как ему не нервничать? – баллотировка в академию назначена, а дом упал, зашатались дома-угрозы… он ведь и перевода ждёт, ему Григорий Васильевич пообещал, – выбалтывала ненароком тайны почище дамских, – без шума доведёшь дело об обрушении до процесса, на строительство переброшу.
Тихо и сладко запел Джо Дассен.
У «Лавки писателей» болтали Акмен и Соколов, Лёнька полез в сумку за книгой, Толька принялся листать… оба живые-здоровые. Перейдя Фонтанку, к Соколову и Акмену медленно приближался Шиндин.
Ага, Фонтанка!
Клодтовские кони темнели на гранитных кубах.
Успели?
– Вы куда-то спешите? – Жанна Михеевна перевела скорость; вспорхнули на Аничков мост, – один светофор остался, – и… и приговаривала, довольная, – как я Нелли понимаю, как понимаю, я тоже счастлива за рулём, наново привыкаю к машине, быстрей, чем думала, привыкаю.
На шее у Жанны Михеевны поверх струения тоненькой золотой цепочки моталась ещё и висюлька из бирюзы; ровненькие ряды зубов с дефектным прикусом сильней обычного подавались вперёд, когда она, напрягаясь, готовилась к повороту.
Бит, урча, мирно возился с плюшевым львом.
Если свернуть на мемориальную улицу Рубинштейна, то… если же налево завернуть, на Литейный, домчать до мемориального угла Пантелеймоновской, то… О, он знал адреса, которые станут мемориальными!
У «Кафе-автомата» стоял, словно поджидал их проезда, Товбин… неужто, специально перешёл на теневую сторону? Посмотрел им вслед, записал что-то в блок-нотике.
из тени – в теньСвернули на Владимирский, припустили. Оглянулся, вместо часов над витриной Соловьёвского гастронома увидел разинутую пасть Бита.
И никаких пробок… одна машина – далеко впереди, всего две встречных. И никакой аварии на углу Стремянной; проскочили Графский переулок.
Вот и площадь, крестов на соборе, залитом солнцем, не было.
Старые тополя устало клонились к ограде собора, грязный пух мало-помалу сдувал ветер; глаза набухали, чесались.
у метро (на углу Кузнечного и Большой Московской)– На рынок заскочу за зеленью, яблочками, ещё чего-нибудь добавлю, творожка с эстонской сметанкой, сулугуни. У Владилена Тимофеевича после Дня Здоровья, надеюсь, аппетит разыгрался.
– Спасибо, – собрался вылезать; ему почему-то есть не хотелось, и ирреальный холодок окатывал, будто… будто была Жанна Михеевна какой-то ненастоящей.
– Дурёха, чуть не забыла! – засмеялась, опять оголяя дёсны, – забыла об ещё одной радости, ну и денёк, мне хорошие цветы надо купить, розы или пионы. Подруга сегодня родила двойню, девочек, с разницей в пятнадцать минуток, забавно, правда? Сразу две невесты на выбор моему Тимке. И вмиг разрешилась, планировала в институте Отта рожать и на тебе! – схватки под утро, на «Скорой» еле-еле успели довезти до роддома, девчушечки на божий свет заспешили, старшенькую так и назовут, Светой, а младшенькую… И мне тоже услужил случай, роддом напротив рынка, удобно, – вытянула руку к жёлтенькому домишке с треугольным фронтончиком, – я за польскими распашонками уже очередь в ДЛТ отстояла, прелесть: розовые, из тоненькой байки.
Согбенный, застрял в дверце, одна нога на тротуаре…
– Вы мою подругу на восьмом месяце беременности у нас в гостях видели. Помните Ирэну, в лиловом платье? Молодчина, умница, за месяц до родов ещё и с та-а-ким вот пузом, – изогнула руку, как если бы ухватила большой арбуз, – блестяще кандидатскую защитила. Букетами завалили, Учёный Совет с час, наверное, судил-рядил не удостоить ли сразу докторской, а через месяц родились нормальные девочки, сразу две.
– Зачем… зачем они родились? – растерянно спросил, вспомнив их глаза, губы.
– Как зачем? – удивление Жанны Михеевны, энергично взмахнувшей ресницами, гневно глянувшей, на этот раз не знало границ, такого глупого вопроса не ожидала. – Родились, чтобы жить!
– Спасибо, что подвезли, спасибо, спасибо, – с замедленным автоматизмом повторял, хотел покончить с неловкой ситуацией, в которую угодил по своей вине, но Жанна Михеевна уже жалела его, жалела, что неприятности служебные допекли, от души желала одолеть несправедливость, победить, превзойти. – Жизнь, Илья Сергеевич, – утешала, – полосатая, как зебра, чёрная полоса непременно сменится белой. Наконец-то вторую ногу и сумку вытащил из кабины, встал, кое-как разогнувшись, на тротуаре, Жанна Михеевна ободряюще помахала, по-свойски подмигнув, рассмеялась на прощание, поехала по Кузнечному переулку к рынку, Бит, удаляясь, смотрел в заднее стекло на ошалелого Соснина.
Хорошо хоть подошвы не скользили, не разъезжались – под ногами был неровный, пористый, как пемза, асфальт.
На ступеньках метро, у толстых серых колонн, старушки продавали укроп, вялые ромашки и семечки.
Поодаль покачивался над очередью у стоянки такси жестяной знак с буквой «Т»; ветерок теребил тополя жалкого бульварчика на Большой Московской, взлетая, нехотя кружились пушинки.
в вестибюле метроИз автоматов для размена монет, распахнув железные створки, выгружали под надзором милиционера выручку. Соснин ждал, пока в подставленные мешки ссыпалось серебро, смотрел на колёсики, шестерёночки, рычажки, желобки с трамплинчиками, под коими поджидали добычу накопители-плошки – фантастически-сложный механизм заправлял такой ерундой?
Обычные понурые лица, ничто их не трогало, не теребило.
Впереди покачивался подвыпивший… от турникетов наперерез бросились два дружинника с красными нарукавными повязками, схватили под локти и круто повернули, повели… – Валерка Бухтин!
Без привычного румянца на ввалившихся щеках, бледно-зелёный, хотя и в той же, что утром, плоской вельветовой кепочке. Нет, совсем не такой, каким был сегодня утром в цветистом сумраке «Европейской» и у гостиничного входа, под липами; да и в столовке на Маклина, выпив, ещё выглядел вполне. Валерку вели прямо на Соснина, но он ничего не видел перед собой. И опять странный холодок овеял… в залицованном поносным мрамором вестибюле «Владимирской» Соснин машинально рылся в кармане с бренчавшей мелочью, а Валерку будто бы вели сквозь какое-то другое пространство, возможно, сквозь пространство зыбкого романного замысла, где Валерку поджидали обыск с подброшенными наркотиками, допросы, ссылка на Колыму, мюнхенские книжные успехи и смерть от слабоумия в чистенькой богадельне? Его уже вталкивали в дубовую дверцу милицейского пикета: что-то строчивший в оперативном журнале ветхий седенький старикашка приподнял головку с серебрившимся хохолком навстречу пленённому, в слезившихся глазках вспыхнули торжествующие злобные огоньки, однако Соснин, овеваемый препротивненьким холодком, испытывал предательский приступ слабости – не кидался на помощь, не пытался выручить. Бухтин вмиг сделался бесплотно-ненастоящим; живой, близкий, перевоплотился в персонажа, чья судьба теперь…