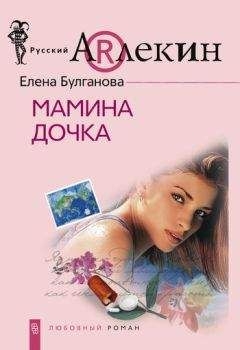Наталия Терентьева - Маримба!
Было воскресенье, Троица. Я человек, как известно, не шибко воцерквленный, традиции не соблюдаю, но чувствую их изнутри. Я знаю в Крещенье, что вода святая. Я за ней в церковь не иду, в проруби не купаюсь, но чувствую в душе волненье. В Троицу я до церкви, может, и не дойду, и березки украшать не буду. Но смотрю на них другими глазами. Знаю, чувствую, как мои предки праздновали Троицу. Не то чтобы помню. Знаю каким-то другим знанием. Понимаю каким-то иным чувством.
Утро было просто прекрасное, тихое июньское утро. Я проснулась на втором этаже нашей дачи. Тихо, из приоткрытого окна – чудесный воздух. В июне у нас повсюду цветет сурепка – желтый сорняк, с нежными, кудрявыми, сладко пахнущими цветами. Сладко, но с чуть горьковатой ноткой. Запах на участке обволакивает, хочется вдыхать и вдыхать его. И я даже не кошу траву в это время, жалко, жду, когда отцветет ароматный луговой цветок.
В тишине, наполненной негромким птичьим пением, вдруг раздался дикий визг электропилы. Воскресенье, девять утра! Ну кто будет пилить дрова или что они там пилят? Я вздохнула и встала, все равно не поспишь и даже не помечтаешь под такие звуки. Уж если наши соседи начали с утра пилить и что-то строить, за пять минут они это не построят. И точно. Визг продолжался и продолжался.
Встала Катька, мы позавтракали. А пила все визжала и визжала. К этому звуку нельзя привыкнуть. Ждешь с ужасом, когда в тишине раздастся этот звук, надеешься – вдруг больше не будет, потом вздрагиваешь, терпишь его и уже ждешь, чтобы поскорее он закончился. Спокойно существовать невозможно.
– Пойдем хоть посмотрим, кто что строит, да и прогуляемся по полю, все равно на участке с ума сойдешь, пока пилят, – предложила я Катьке.
Мы вышли на улицу, прошли немножко и ахнули. Целый ряд берез по центральной улице нашего товарищества, от которой параллельно расходились четыре другие улицы, были кое-как, наспех спилены. По пояс, по грудь, по колено. Здесь – так, там – сяк. Не задумываясь, как вышло. Где не допилили, ногой доломали. Хрясть – переломили белый, нежный, гладкий ствол. И свалили все это по обочине. Рядом со сваленными березами, широко расставив ноги, стоял Санек и отхлебывал пиво. Рядом с ним лежала бензопила.
– Саша! – крикнула я сторожу. – Ты что делаешь?
– Чего? – обернулся на меня потный Санек. – А, это ты! Не видишь, что ли? Работаю.
– Зачем ты березы пилишь?
– Сказали мне, и я пилю! – зло ответил Санек. – Вы бы отошли. А то щепа попадет, – он поднял электропилу и вознамерился пилить снова.
– Кто тебе велел пилить березы? Да еще на Троицу?
– Чего?
Толстый потный Санек с огромной электропилой в руках производил устрашающее впечатление. Большое брюхо, выгоревшая тирольская шляпа, высокие грязные резиновые сапоги, оранжево-черная пила, сам беззубый, с лица течет, мокрая рубашка расстегнута, из-под нее торчит рыжеватая шерсть с сединой, вонища – пот с перегаром…
– Мам… – Катька умоляюще и растерянно посмотрела на меня.
– Погоди-ка… – Я чуть отодвинула ее себе за спину. – Саша! Документы покажи на спил деревьев. На каждое дерево.
– Чего?
– Я повторяю, если ты не услышал меня. Документы мне покажи на каждое спиленное дерево. Составленное экологической службой.
Саня посмотрел на меня с сомнением.
– Идите к председателю, он вам покажет, что надо.
– Да нет, Саша, ты, наверно, не понял. Деревья пилишь ты. Вот документ и покажи. Это называется паспорт на спил. Выдается на каждое дерево. Ставится на дерево номер. И потом пилится. Понимаешь?
– Мне сказали… – начал было Санек.
– Саш, у тебя паспорт есть?
– Чего?
– Я говорю – у тебя паспорт есть? Ты же россиянин, Саша…
– Да ладно тебе! – отмахнулся Санек.
– Нет, не ладно. За то, что ты делаешь, председатель отвечать не будет, даже если он приказал. Он приказал, а ты мог исполнять приказ или не исполнять. Ты же присягу ему не давал? Ты ведь не в армии, можешь не подчиняться.
– А вы кто? – Санек смотрел на меня исподлобья, пилу опустил на землю. – Полицию вызывайте, если вам надо.
– Какой ты смелый, Саша! Про полицию ты сказал, не я. Я просто предложила прекратить пилить березы. Эти уже не вернешь. Но если вызвать экологическую полицию, то за каждую березу, на которую не составлено решение по спилу, заранее причем, не сегодняшним числом, придется платить штраф, большой штраф, и подозреваю, что тебе лично. Пять тысяч за каждое дерево. Или нет, пятьдесят. Не помню. Посмотрю в Интернете и скажу.
– Чего я? – визгливо ответил Санек, отмахиваясь от чего-то невидимого. – Зараза, лезет… Тьфу-ты…
Мы с Катькой переглянулись. Ни жужжания, ни мошек видно не было.
– Чего я? – продолжал причитать Санек, довольно резко, надо признать. – Да в лесу этих деревьев… Каждую неделю рубим!.. – Он осекся.
– С этого момента можно поподробнее?
– Да я вообще с вами разговаривать не буду! – гавкнул Санек и, подхватив пилу, быстрыми шагами потопал в сторону своего дома. Не пошел почему-то к председателю искать защиты.
Мы с Катькой попробовали зайти к «старому тренику», но тот калитку нам не открыл. Видел наверняка, что это мы, и к забору даже не подошел.
– Пойдем, зайдем к Шуре, узнаем, что там и как.
– Может, попозже, мам? – спросила Катька, страсть как не любящая никаких конфликтов.
– Пойдем-пойдем, поговорим с Шурой, пусть она Сане объяснит, что к чему. Ты можешь в сторонке постоять, если боишься.
– Я не боюсь! – пробубнила Катька и покрепче взяла меня за руку.
Подходя к дому сторожа, мы еще издалека услышали истошный крик. Сначала я решила, что кто-то умер. Так кричат, когда нет сил, на первый или второй день, когда наваливается горе, когда можно только лежать на земле. Кричать, пока есть голос. Плакать, пока есть слезы. Выть, когда уже нет ни того, ни другого, а горе, заполняющее тебя и все вокруг тебя, есть. И кроме него, нет ничего.
– Господи… – Мы с Катькой остановились и посмотрели друг на друга.
Подойдя поближе, мы стали различать слова. Некоторые были очень грубые.
– Я… их… барахло… чтобы… я… охранять… еще… тут… собирайся… мотаем… сука-а-а… ка-а-ка-а-я… а-а-а…
Я не сразу поверила. Но кричала Шурочка. Визжала, на пределе голоса.
– Сорвет голос, – проговорила я.
– Мам, ей плохо? – с ужасом спросила Катька. Она тоже узнала Шурочкин голос.
– Думаю, да.
Мы постояли около их двора, теперь уже огороженного невысокой сеткой-рабицей, и пошли домой, собираться. Назавтра мы уезжали на море.
– Жалко березы, правда, мам? – спрашивала меня Катька несколько раз в тот день.
– Да слов нет.
– А наши тоже спилят?
– Пусть только попробуют!
– Ты им покажешь, да, мам? – Катька с надеждой смотрела на меня.
– Да уже смысла не будет тогда ничего показывать. Надо, чтобы сейчас испугались, мародеры проклятые.
– А зачем они рубят березы? Они что, правда дома взрывают?
– Никогда такого не слышала. Корнями почву укрепляют – да, канавы не размываются, почва не проседает. А чтобы дома взрывать… Наверно, аллергия у кого-то. У внуков, у жен, у самих «треников». Аллергия на цветение берез.
– Березы цветут? – удивилась Катька.
– Вы еще не проходили? Конечно, в середине весны. Вот кто из соседей здесь живет в это время? Или кто постоянно приезжает? Нам с тобой не до дачи, самое горячее время в школе, да и я к лету обычно что-то сдаю, сижу за компьютером без продыха… У Альфирки аллергия на березовую пыльцу, кстати. И у ее сына.
– Разве у взрослых бывают аллергии?
– Конечно. Альфира отпуск всегда в конце апреля берет, чтобы из Москвы уехать, пока березы цветут.
– Надо же… – задумчиво сказала Катька. – Странно как все в жизни… Кому-то плохо от того, как цветут березы… У их предков что, берез не было?
Я посмотрела на Катьку.
– Да, думаю, именно так. Где родился, там и пригодился.
– А Альфира где родилась?
– В Казани.
– А там есть березы?
– М-м… Ну если и есть, то это точно не березовый край.
– А «старый треник» где родился?
– Не знаю, дочка, – засмеялась я. – В деревне Глупово он родился. Давай собираться, времени мало осталось. Я не хочу теперь, чтобы Шура цветы наши поливала, но, думаю, делать нечего. Ни с кем мы больше не договоримся.
– А мы завтра не очень рано уезжаем?
– Не очень. В семь утра.
– Ма-ам… В семь?!
– Как есть, Катюня.
Ближе к вечеру я решила позвонить Шуре и узнать, успокоилась ли она. Я, конечно, слышала, как она истерично кричала о какой-то «суке», но гнала от себя разумную мысль – не я ли эта сука. Не я. Шура переживала о какой-то другой… собаке женского рода.
Мужик ее – человек глубоко зависимый. «Старые треники» ведут себя как крепостные помещики. Уж если они с соседями-дачниками, приезжающими по выходным на «Лексусах» и «Тойотах», пытаются выстраивать отношения по вертикали «барин – холоп», то что уж говорить о бедном Саньке, получающем официально зарплату шесть тысяч рублей и живущем милостью своих господ. Что дали, то и дали. Грузовик с асфальтовой крошкой разгрузил – заплатили пятьсот рублей, Саня доволен, кланяется, еле живой от непосильного труда. Один, лопатой, на жаре полтонны вонючего, снятого где-то раскрошенного асфальта разбросал. Так зато и денег!.. Если в пересчете на литры пива – ого-го, упиться! Собакам костей привезли – с общественных денег, Саня благодарит благодетелей, Шурочка кулеш ведрами овчаркам варит. Новую помойку поставили – Саня больше всех доволен. Почему? Потому что он – начальник этой помойки. Он рядом с ней живет. Он ее содержит в порядке, отвечает за нее. Разрешили ему участок огородить, обещали стройматериалы купить на пристройку. И он за обещание одно служит верой и правдой. Велели березы рубить – так он, не задумываясь, что к чему, повеление выполняет. Ну зависимый он человек, крепостной крестьянин, одним словом. Что на него обижаться!