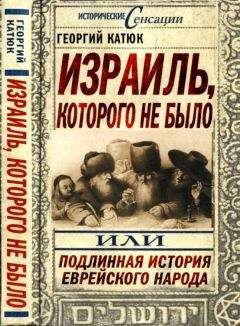Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
– Ростом ты, брат, не вышел и пейсов нема, – ответил мне ее взгляд.
Дверь, влекомая тугою пружиной, хлопнула у нас за спиной.
– Если выяснится, что Двора здесь не причем, и ее можно брать в союзники, то дальнейшие контакты в ней будешь устанавливать ты, – сказал я. – Зря, что ли, она на тебя смотрит, как кролик на удава?
Иошуа покачал головой.
– Я же тебе вчера вечером объяснил: у меня есть невеста.
– Как хочешь. Кстати, тебе помочь расставить картины или сам справишься?
– Сам справлюсь.
– Так. Никакие шидухообразные встречи невозможны из-за наличия у тебя невесты, между прочим, сейчас во всех подробностях мне о ней расскажешь, и не надейся, что тебе удастся отвязаться. Но пока меня интересует другое – ты уже на этой Дворе меня женил?
– Да, – просто ответил Иошуа.
– А меня ты, случаем, не забыл спросить?
– Проголосуем, – предложил Иошуа. – Мы с Вс-вышним – «за». Ты – в раздумьях. Двое «за» при одном воздержавшемся.
– А что скажет она сама?
В крайнем случае, будет против. «За» все равно большинство.
– А откуда у тебя такая уверенность во Вс-вышнем?
– Я в Нем всегда уверен.
– Нет, в том, что Он – «за»?
– Если Он против, у вас все равно ничего не получится. Этот вариант можно и не рассматривать.
– Согласен. Тогда на свадьбу подаришь мне четыре своих лучших картины.
Йошуа скрипнул зубами. В нем проснулся гофмановский ювелир. Мы миновали оффисы и спустились по тропке к караванчикам «“Хилькат а-садэ». Снизу приветственно заклокотали куры. Зашевелились тучные индюки с красными соплями.
– Матай пурим ? – Когда Пурим? – крикнул им Йошуа. – И они ответили:
– Бадар! Бадар! Бадар ! то есть в Бадаре!
* * *Четырнадцатое адара пять тысяч семьсот пятьдесят четвертого года. Пурим в Москве. На сцене стоит самодеятельный актер, с красивым еврейским лицом, а на руках у него сидит мой Михаил Романович и улыбается неполнозубым ртом, символизируя «чудом спасенный народ». «Алеф» за девяносто четвертый год. Страницы пожелтели, Мишка вырос, я постарел.
Мой взгляд упал на лежащий слева от меня мобильный. На его экранчике высвечивалось пятнадцать пятьдесят. Пришлось отложить журнал и вылезти из будки. На желто-зеленом глянце свежевысохшей краски пыль смотрелась особенно аппетитно. Как первая пороша в Подмосковье.
Несмотря на то, что на дворе стояло лето со всеми вытекающими из наших потовых желез последствиями, в этот день дышалось вполне терпимо. Ветерок перебирал длинные листья-лодочки странных деревьев, которые, судя по этим самым листьям, должны были быть либо ивами, либо эвкалиптами, но ивами они не могли быть, потому, что известно, что на весь Ишув имеется лишь одна ива – на дворе у Иегуды Шехтера. Когда наступает Суккот, и пора раздобывать «арба миним», четыре растения, весь Ишув возле нее пасется, срезая веточки. А что касается болотолюбивых эвкалиптов, то на наших горах они не растут. Как бы то ни было, флотилии зеленых лодочек качались на волнах голубого ветра и стремительно плыли, никуда не плывя.
Я вошел в пустую учительскую, хлопнув темно-коричневой дубовой или «поддубовой» дверью. По счастью, учительская была пуста, никто из преподавателей не приволок сюда своих учеников. Есть у нас в школе такая система – во время уроков учительская рассматривается, как обычное учебное помещение, и, поскольку классы от моей будки удалены, а учительская рядом, я вою всякий раз, когда там проходит урок со всем сопутствующим балаганом. В смысле бардака, творимого на уроках, ешива тихонит, конечно, лучше, чем любая израильская школа, даже религиозная, но гораздо хуже, чем все, что может себе представить нормальный человек, обладающий обычным, а не брейгелевским воображением.
Как бы то ни было, если бы в учительской сейчас проводилось какое-нибудь занятие, мой план позвонить в Москву оказался бы утопичен, как социализм.
А так – тишина, покой. В учительской по белым стенам бегут полки из ДСП с наклеенными на них и уже отклеившимися коричневыми пленками, призванными изображать что-то вроде коры карельской березы.
Я вошел в кабинет рава Элиэзера. Конечно же, рава не было на месте, и, конечно же, кабинет не был заперт. Я набрал номер его мобильного телефона.
– Слушаю!
– Рав Элиэзер, извините, мне срочно нужно позвонить в Москву. Можно я позвоню из вашего кабинета? Я потом оплачу – могу сейчас засечь, сколько времени говорил, и возместить по тарифу, могу потом посмотреть по распечатке.
Ведь знаю, что не откажет, а до чего жалобно выходит.
– Хорошо, – ответил рав Элиэзер. – Только телефон, по которому вы сейчас звоните (я понял, что номер отразился на экране его мобильника) не имеет выхода на заграничные линии. Так что позвоните по другому аппарату. Он стоит на столе, который…
– Вижу, вижу, спасибо большое, рав Элиэзер…
Вот только что не рычал я, набрасываясь на телефон.
Ноль – один – два – семь – ноль – девять – пять – два – три – два – один – ноль – пять – три.
Я точно рассчитал: Михаил Романович должен быть дома, а Галка нет.
– Алло!
Вот черт, ошибся номером. Вместо Мишкиного фальцетика бас какого-то мужичины.
Еще раз. Ноль – один – два – семь – ноль – девять – пять – два – три – два – один – ноль – пять – три.
Опять тот же мужик. Попробуем наугад:
– Здравствуйте. Мишу можно?
Человек на том конце провода замялся, и по этой заминке я все понял – и что это за новый жилец в квартирке на Ленинском, и почему Галка вдруг так со мной покрутела, и что он сейчас не знает точно кто это там, на дальнем конце провода, а спросить неловко, равно, как и бросить трубку в присутствии Мишки…
– А кто это?
– Какое вам дело, кто! Дайте мне моего сына!
Гениально! Надо же, сам, дурак, проговорился.
– Роман Вениаминович, – понизив голос, заговорил из Москвы неизвестный, – Роман Вениаминович, простите, вы что, письма не получили?
– Дядя Коля, – послышался издалека (а я знаю, откуда – из кухни! Мишка – сластоежка) обожаемый мною голосок, – дядя Коля, кто это?
– Это меня, – крикнул зловредный дядя Коля.
– Не ври, – строго сказал я. – Это не тебя, а его. Дай ему немедленно трубку.
– Роман Вениаминович, поймите, – очевидно, забыв, что его слышит мой сын, вслух скороговоркой заговорил «дядя Коля», – у Мишеньки своя жизнь, а у вас – своя. У человека не может быть двух отцов!
А уже совсем рядом с трубкой заплясал Мишкин фальцетик:
– Это папа, да? Дядя Коля, это папа, да? Дядя Коля, дайте мне папу!
– Дай мне сына, падло! – завопил я. – Дай Мишку, а то урою.
– Алло, – послышался в трубке Мишенькин голос, и я вдруг почувствовал, что еще немного и заплачу, как баба.
– Алло, – повторил Михаил Романыч и я, сделав усилие, чтобы голос не дрожал, чтобы все было нормально, пролепетал:
– Мишенька, это я, папа.
– Здравствуй, папа, – сказал он, вдруг понизив голос.
– Папа, – заверещал Мишка, – а мне сказал дядя Коля, что ты больше не будешь звонить! Он говорит – не может быть у человека два папы, а я говорю – может!
– Конечно, может! – воскликнул я. – Вот видишь, я звоню, и буду звонить.
– Здорово! – сказал Михаил Романыч, но я понял, что ничего здорового нет – старый папа вернулся, и слава Б-гу, а жить то ему с новым папой.
– А я араба убил, – неожиданно для самого себя сказал я. – Он напал на наших детей и на меня тоже. А я застрелил его.
– Что-о-о? Что, пап, правда? Расскажи!
Кое-что изменилось во мне с того дня, как я с удовольствием сквозь открытое окно палил в лоб террористу. Нет, стыдно мне, не дай Б-г не было, просто рассказывать не хотелось. Но Мишка ждал, решалась моя и его судьба, и я, перевоплотившись в себя самого пятидневной давности, начал рассказывать. Золотые телефонные минуты летели, я не считал их. Каждая минута это был еще один год моей жизни, еще один сантиметр ниточки, которой Михаил Романыч вытягивал меня из пропасти, а я – его.
И всякий раз, когда он восклицал: «Ух, ты!» «Прикольно!» «Ну, в натуре, у меня суперпапка!», я понимал, что в скалу, по которой предстоит ползти, вбит еще один крюк.
* * *Хрюканье тормозов послышалось внизу на дороге в тот самый момент, когда я твердо решил, что в четверг, двадцатого июня, на следующий день после выпускного вечера полечу в Москву. Надо только побеспокоиться насчет билета.
А все же, кого это принесло? Из машины вышел высокий седой джентльмен с таким выражением лица, будто только что прилетел на Марс и о биологических видах, обитающих там, решительно ничего не знает. И не шибко хочет знать. Передернув на всякий случай затвор автомата, я двинулся ему навстречу, но затем раздумал спускаться по ступенькам и встал наверху лестницы, ожидая, когда он поднимется. Старый денди, облаченный в дорогой костюм в голубую клетку – вот только тросточки не хватало – поднял глаза и узрел над собой чудовищно-странного коротышку с автоматом в залатанных штанах цвета хаки, в канареечной – из тех, что разве что неграм к лицу – рубахе с короткими рукавами и вырезом, через который проглядывал далеко не вчера стираный талит, майка с подобной же биографией и черные начинающие седеть курчавящиеся волосы – благородная масть сорокасемилетнего мужчины. Очевидно, впечатление было сильным. Гость опустил на место уже занесенную над следующей ступенькой ногу, словно пораженный догадкой, что «Шомрон» никакая не ешива-тихонит, а кодовое название сумасшедшего дома, но тут хлопнула дубовая дверь учительской, и за моей спиной большущей тенью вырос рав Элиэзер. Он раскинул руки так, будто собирался обнять одновременно и меня и дорогого гостя, и как бы поколебавшись с кого начать, заворковал: