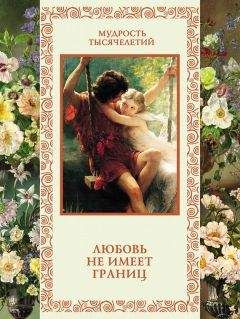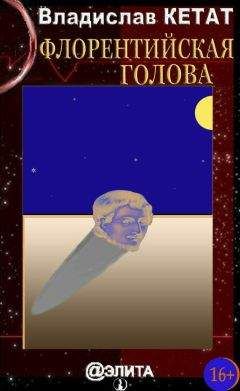Владислав Кетат - Дети иллюзий
– Я хочу тебя, – говорит она, – прямо сейчас.
– Определённо, мне понадобится твоя помощь.
У Татьяны на лице появляется улыбка, за которую мужчины иногда готовы отдать полжизни.
– Так? – спрашивает она, плавно двигая бёдрами вперёд-назад.
Чувствую на своём паху влажный жар.
– Ты меня с ума сведёшь… – выдыхаю я.
За окном слышится звук подъезжающего автомобиля. С характерным для старой «классики» скрипом открываются двери, и к нам в комнату врывается «Люсия» Литл Ричарда, а вместе с ней в моё воображение – набриолиненные парни в узких брюках, кожаных куртках и длинноносых шузах, которые яростно подбрасывают в воздух кудрявых девиц в широченных юбках. Не успевает моя фантазия как следует развернуться, как двери машины захлопывается и Литл Ричард со своей Люсией под раскаты дырявого глушителя отбывает из нашей комнаты вместе с парнями и девахами пятидесятых.
– Интересно, а что останется от нашего времени? – спрашиваю я в пространство.
Татьяна отрывает немного затуманенный взгляд от книги.
– Что, не поняла?
Я поворачиваюсь на правый бок, лицом к ней.
– Ну, от пятидесятых остались битники и рок-н-ролл, от шестидесятых – хиппи, от семидесятых – хард-рок, от восьмидесятых – попса, а что останется от девяностых? Ведь должно от них что-то остаться, кроме того кошмара, что творится в стране.
Татьяна откладывает книгу в сторону.
– Хороший вопрос, ты сегодня в ударе, – говорит она серьёзно, – но ответить на него сейчас, боюсь, проблематично, поскольку девяностые ещё не кончились. Одно можно сказать совершенно определённо: период времени, который мы с тобой определяем как девяностые, у нашего с тобой поколения будет ассоциироваться исключительно с развалом Союза и последующей деградацией всего, что с ним связано, в том числе и искусства. Ты согласен со мной?
Я киваю – она, безусловно, права.
– Но всё дело в том, – продолжает Татьяна, – что параллельно с деградацией в нашей стране могут и должны протекать и другие процессы, которые мы с тобой, в силу нашего воспитания, образования и образа мышления пока просто не замечаем…
Я снова киваю, а у самого мысли уходят в другом направлении. Дело в том, что Татьяна – не совсем обычная в смысле общения девушка: она любит, чтобы ей задавали вопросы. О чём угодно. Поэтому я стараюсь иметь про запас парочку-троечку. Это для неё, как она выразилась: «гимнастика мозгов и языка». Слушать её рассуждения на всевозможные темы чаще интересно, чем скучно. Иногда, правда, это напрягает – надо постоянно думать о том, что бы такого ещё у неё спросить, но иногда очень даже весело. Вчера, например, я спросил у неё, как можно адаптировать старинные сказки для того, чтобы они стали интересны современным российским школьникам, и новый сюжет «Золушки», согласно Татьяной версии, был таков: героиня отправляется на бал, соблазняет принца, делает ему миньет в отдельном кабинете, за что получает определённую сумму денег; роняя туфельки, бежит на ближайший строительный рынок, покупает там бензопилу, возвращается на бал и кончает мачеху и сводных сестёр. Кровища. Занавес.
– …поэтому мы с тобой сейчас ни за что не угадаем, чем же на самом деле человечеству запомнятся девяностые, – заканчивает мысль Татьяна, – когда они закончатся, нам по телевизору скажут.
Успеваю вернуться реальность и снова киваю.
Короткий зимний день умирает. Бледный, как покойник, свет пробирается к нам в комнату, но уже понятно, что его часы, скорее даже минуты, сочтены. Не знаю, как другим, а мне в такие моменты становится невыносимо грустно.
– Может, винца? – предлагаю я. – Помянём световой день…
Татьяна делает отрицательный жест ладонью:
– Не-а. Я голосую за духовную пищу. Ты, кажется, говорил, что твой друг-скульптор звал нас в гости.
– Говорил… – бормочу я.
Наши взгляды встречаются, и я замечаю в её серых с карими прожилками глазах непонятного сорта энтузиазм.
– Я бы с удовольствием посетила его мастерскую, – мягко, но уверенно произносит Татьяна, – если ты, конечно, не против.
Ну как я могу быть против! Панк Петров действительно позвал нас к себе в прошлые выходные. У него там что-то такое случилось: то ли появилось что-то новое, то ли он продал что-то старое, точно не помню.
– Тогда нам пора, – говорю я, глянув на часы.
На сборы уходит совсем мало времени. Татьяна не из тех девушек, которые собираются часами, что меня, если честно, очень радует. Не проходит и пяти минут, как ей для полной боевой готовности остаётся только привести в порядок волосы, а мне – надеть носки.
Должно быть, я – извращенец, но мне нравится наблюдать за ней, когда она одевается – уж больно грациозно и соблазнительно у неё получается. Выходит эдакий стриптиз наоборот.
– Обычно мужчинам нравится обратный процесс, – бросает через плечо Татьяна, замечая мой интерес.
Поднимаюсь с кровати и подхожу к ней сзади.
– Может, я – необычный мужчина, – говорю я, обнимая её за плечи, – и мне нравится всё необычное…
Татьяна ловко выскальзывает из моих объятий.
– Пойдём, необычный мужчина, – говорит она с улыбкой, – поздно уже…
Мы решаем дойти до дачи Панка Петрова пешком, это не так далеко – она находится между платформами «Валентиновка» и «Болшево», ближе к последней.
Совсем стемнело. Из лишённой звёзд темноты еле сыплет мелкой крупой снег. Мы с Татьяной идём под ручку вдоль железнодорожных путей по слабо освещённой заваленной снегом улице, по обеим сторонам которой из-за покосившихся заборов просматриваются черные дачи с белыми шапками на крышах.
Татьяна выглядит задумчивой, видимо, темнота и лёгкий мороз повергли её в меланхолию. Мне, напротив, моцион придал сил и энергии.
– Эта улица раньше была улицей Свердлова, – озвучиваю я неожиданно всплывшее воспоминание, – а в конце восьмидесятых после долгих дебатов в местной прессе она стала улицей Цветаевой.
– Причём здесь Цветаева? – рассеянно спрашивает Татьяна.
– Она жила здесь в войну, кажется, – поясняю я. – Дальше по улице её дом-музей, правда, я там ни разу не был.
– Да? Интересно…
– Помню, наша училка по литературе, по кличке «Синяя», очень за это переименование ратовала. Она, видите ли, считала страшным кощунством тот факт, что дом, где жила Цветаева, находится на улице Свердлова, потому что его сын, якобы бывший следователем НКВД, вёл дело сына Цветаевой, которого впоследствии расстреляли…
Татьяна, до этого момента спокойно внимавшая моим россказням, отрывается от неизвестных мне, всецело занимающих её мыслей.
– Ты серьёзно?
– Абсолютно. Вообще, это была ужасно политизированная и, как мне кажется, весьма недалёкая дама. Вместо знакомства с шедеврами русской литературы рассказывала нам об ужасах большевизма.
– А вы, что?
– Спорили с ней до хрипоты, идиоты. А надо было послать подальше…
Татьяна поддевает носком сапога ледышку размером с кирпич и проворно отшвыривает в сугроб.
– У нас такая флюгерша-историчка была, Анна Павловна Костылева. Мы её звали: Анна Напалмовна. Была членом партии и председателем парткома школы, кажется. А после перестройки у неё вдруг прорезались дворянские корни, она поставила в кабинет икону вместо портрета Ленина, стала носить огромный крест на впалой груди и при каждой удобной возможности крыть матом советскую власть, которая, между прочим, её вырастила, выучила и выкормила. А может, ещё и квартиру дала.
С удивлением гляжу на спутницу. Татьяна отводит глаза:
– Не смотри на меня так, я не верующая коммунистка. Я, между прочим, из семьи репрессированных, и у меня масса претензий к советской власти, просто я ненавижу таких сук беспринципных. Если служишь дьяволу, то делать это надо беззаветно и преданно, иначе не стоит и пытаться. Дай сигаретку, пожалуйста.
Достаю из кармана пачку «Золотой Явы», в которой обнаруживается всего две сигареты.
– Хороший знак, – говорю я, – доставая обе.
– Хороший, хороший, – соглашается Татьяна, – прикури, будь другом.
Делаю то, что меня просят. Татьяна берёт зажжённую сигарету губами и шумно затягивается.
– Далеко ещё? – элегантно выпустив дым, как умеют делать только симпатичные девушки, спрашивает она.
– Не очень, – отвечаю я, – ты что, замёрзла?
Татьяна отрицательно болтает головой и снова глубоко затягивается.
Дальше, до самой дачи, мы идём быстро и почти не разговариваем.
В мастерской Панка Петрова прохладно. Помещение, бывшее когда-то оранжереей генеральской дачи, теплотой не отличается – из огромных окон, призванных давать как можно больше света растениям, ощутимо сквозит. Немного спасает положение стоящий по центру исполинских размеров калорифер, похожий на футуристическое надгробие. Панк Петров рассказывал, что лет двадцать назад его бабка-генеральша выращивала здесь всяческую экзотику: манго, авокадо, разные пальмы и фикусы, и ещё много всякого разного, косточки чего его дед-генерал привозил в Союз с колониальных войн. После бабкиной смерти весь этот ботанический сад без должного ухода довольно скоро захирел, а в память о былой роскоши остались эти самые окна и неимоверное количество горшков, некоторые из которых внучок приспособил под свои нужды, но многим так и не нашлось должного применения, и они, словно художественно оформленные урны, расставлены теперь по дому и во дворе.