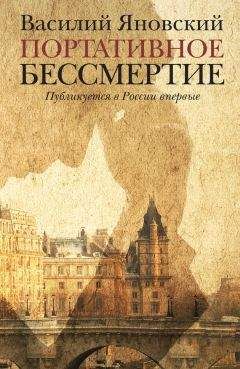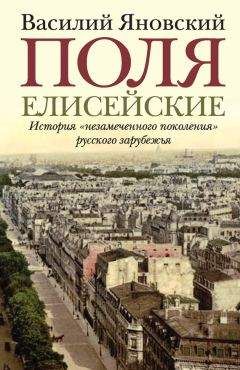Василий Яновский - Портативное бессмертие
С вымершими кварталами, закрытыми наглухо мастерскими, банками и почтамтами, задраенными витринами магазинов и грустно расхаживающим – стайками – людом: монтеры, конторщики, булочники, коммерсанты, чиновники и Бог знает кто еще… носят свое лучшее платье, как архиерей облачение, напомаженные и сбитые с толку жертвы. Эти жены, худые или жирные, о чем они грезят еще… Детвора. В колясках карапузы (просятся на руки); мальчишки норовят сделать «пипи» под автобус, девочки жадно глядят на сласти (а чуть постарше, бесстыжие, уже лукавят). Муж делает свирепое лицо, куражится – труслив и слаб – форма защиты от посягателей на его очаг, на честь жены, дочки, свояченицы, сестры-вдовы (или старой девы). О, как унизителен этот безликий день, с родней, потомством, трущимися, глазеющими, деловито решившими отдохнуть сиротами. Уже поедено, выпито, поспано, были гости, – посидели в кафе, снова выпили. Уже день клонится к земле, как тяжелый, зрелый подсолнух, – его ждали всю неделю: издалека он помогал осмыслить эти рассветы, тряску, неурядицу, смягчая противоречия, суля награду. И вот он, пустоцвет, прошел полый, еще больше подчеркнув неудачу, оставив новую ссадину в сердце. Привыкли бежать, спешить, стучать – по часам, поштучно. День в русле гудков, циферблата; неделя определяется отдыхом, праздником, как судно по звездам; оживляется им. И вот, наконец! А такое чувство, точно у альпиниста, с огромным трудом карабкающегося в гору и вдруг узнающего: пресловутая вершина, ничем не замечательная, осталась уже позади. Самое трудное – это примириться с бессмысленностью своего досуга: свобода бесцельна – все надежды рушатся. О, печаль воскресенья, ненужно потоптанное, ушедшее меж пальцев, обесцененное, оно еще здесь (нечего утешать себя грядущим праздником), в кругу обездоленной семьи, детей, тещ, холостяков, фланирующих по бульварам, нищих, голодных и торговцев сластями, сандвичами, лимонадом, кормящихся гулянием, как продавцы венков (у кладбищенских ворот) – похоронами.
2
Собрание Свифтсона – контрольное, с непосвященными было назначено на это воскресение. Пересаживаясь в метро, я встретился с одною из приглашенных (женщина-дантист). Она недавно приняла французское гражданство, получила все права и переживала медовый месяц патриотизма. Непрестанно, в благодарном порыве, вполне искренно (что смешило) твердила: «Мы должны любить великую, культурную нацию, приютившую нас». Пересыпала свою речь галлицизмами, часто, по-суворовски лаконично, повторяя: “J’aime la France [76] …” Оттого мы ее прозвали Мадам Жэм-Лафранс. Она одевалась в перья, меха, кружева – неестественно перетянутая, оголенная, накрашенная. Нечто пестро-телесно-пышноволосое птичье-звериное, пушисто-рыбье (одновременно флора и фауна, натюрморт и ню). Характерные черты данного народа (главным образом отрицательные) ярче всего выражают пришельцы. Русские женщины с виртуозною легкостью восприняли свойства, приписываемые (часто облыжно) француженкам; денационализированные чиновники и мальчики отлично прониклись сознанием (типичных для Парижа) полустудентов, полувышибал, полухолуев. (В России наиболее страстными ценителями, полными выразителями достоевщины бывали инородцы; да и в самом Достоевском бродило много неславянского.) Так в колониях вновь прибывшие сразу, бурно и остро, заболевают малярией, тогда как туземцы, получив уже прививку, закалены и если хворают, то не смертельно. В эмиграции поют про ямщиков (непрофессионально) только евреи. Куда девалось хваленое московское гостеприимство… Ищи его у армян или караимов {17} . Достаточно было мне стать рядом с Жэм-Лафранс, чтобы мгновенно оказаться втянутым в порочную цепь, превратиться из философа-наблюдателя в холопа, цербера: я должен прикрывать мою даму, защищать от разных поползновений, отвечать за нее. Я принимаю грозные позы, так что всякому легко смекнуть: в случае нужды могу и ударить, укусить, залаять. Кругом кобели, они отворачиваются, зевают, хмурятся и вдруг срываются, притрагиваются взглядом, млея, внутренне облизываясь, примериваясь; все шито-крыто, но первобытная борьба идет между нами, глухая, упорная и братоубийственная. Мадам Жэм-Лафранс, ее ноги, грудь, губы – вот поле этой драки (стог сена, который я почему-то вынужден охранять, делая зачаточные движения челюстью, кулаками, бицепсами). В четырехугольной дергаемой коробке, где мы заперты, липкий воздух скоро сгущается. Жажда уничтожения и зачатия обжигает легкие. Как медленно уносит вагон. Куда спрятать глаза, себя (совестно). Все раздражены, пристыжены, угнетены. Прочь, скорее. Я не привык участвовать в такой жизни. Я не хочу кормить семью, вырывая хлеб у других, предохранять жену от дел, на которые раньше сам подстрекал, объяснять: дочери – откуда берутся дети, куда увозят бабку; сыну – братья ли все люди, где Бог и что предпринять, когда чешется… Как это люди, большинство, осиливают: титаны (или бревна). Внезапно предлагаю Жэм-Лафранс сойти немного раньше: пройдемся, душно, – умоляюще улыбаюсь. Мадам соглашается: она любит поговорить, а тут, ссылаясь на грохот, я отказывался слушать. Вышли. Улицы кишат нарядными толпами. Праздник, пополудни, солнце еще не село. В саду играл оркестр, били фонтаны. Мы глазели, пробирались меж гуляющими стайками; нас в свою очередь тормошили, оглядывали замедленные волны встречных: изучали сидящие на скамьях и стульях, с подлым, радостным вниманием расстреливали всех прохожих – улыбками, замечаниями, догадками. Юноши на бульваре нетерпимо передергивали плечами, когда проносился велосипедист, ревниво стараясь найти изъян в его экипировке, – успокоить себя, его уязвить (они гуляли по трое, четверо с одною девчонкою: такой период). Кавалеры грубо пронзали соперников, ревизовали костюм, повадку, прическу, искали слабые, «узкие» места (отсутствие помады на волосах), и если находили, то отворачивались почти доброжелательно; присасывались накрест к дамам: трусливо или откровенно (в зависимости от разных обстоятельств). Вот показалась молодая пара, повернула на усыпанную гравием дорожку, нет, она не ушла: спутник подхвачен, отстранен, уничтожен, дама тут же растерзана на части. Еще отвратительнее были дамы постарше. Сплетницы, они фыркали в самое лицо, высмеивали шляпки, лица, грим: на скамьях обменивались ядовитыми шутками, раствор коих вызвал бы судороги у молодого кролика; чтобы жить и уважать себя, требовалось – унизить, стереть, превзойти ближнего. Только при виде безусловно понятной красавицы или непостижимо дорогого туалета они сразу, целиком сдавались и – сволочь – молча, побитыми собачонками, нюхали след. «Какое горе, зачем мы встретились! – ломал я мысленно руки, теряя внутреннее равновесие, отчаявшись уже выбраться когда-нибудь – спрятаться – из этого моря вражды. – Боже, я не хочу участвовать по-ихнему в жизни. Я разучился быть злым. Не могу, лучше гибель!» А мадам Жэм-Лафранс отлично ныряла в этой стихии гнева и вожделения, бойко скалила зубы и глаза, не давая спуску наглым дамам, упорно утверждавшим, что она «сделана» не по возрасту. «На голову не всегда капает дождь. Рабочие становятся с каждым днем все сознательнее. “ A la guerre, comme а la guerre! [77] ” – не знаю, по какому поводу она сообщала. – Вы читали статью…» Мне почудилось: со мною Лоренса, в этой пучине. Мы рядом – рука об руку – бредем. Плечи беспомощно опустились. «Да, это верно. Бесполезно! – сжалось сердце. – Брось, – пробовал. – Жизнь проще. Утряслось бы. Страшен сон, да милостив… Господи, Господи», – взмолился я беспомощно и чуть не заплакал от жалости к самому себе. (Так однажды отец, провожавший дочь в большой город, где ему мнились соблазны и опасности, неожиданно, может, впервые за долгие годы, вымолвил: «Да хранит тебя Бог…» – и я был раздавлен всей силою одиночества и беззащитности, о которой свидетельствовала эта молитва.) Мы продолжали шагать. Я – напряженный, с лицом, достаточно свирепым, чтобы избежать неприятностей, легко пряча кляксу на штанине гольфов от подростков, могуче выпятив грудь навстречу ядовитым испарениям.
3
Собрание было назначено в доме одного старого адвоката – рю де ла Сантэ [78] , – про которого полушутя говорили, что он занимается юридическими абортами; сам же он рекомендовался: “ M-r Solar, qui arrange toutes les affaires perdues [79] ”. Но личные дела ему не удавалось, по-видимому, устроить; часто жаловался: дороговизна, налоги! «Встану утром, – любил он повествовать. – Еще глаза не продрал, а у меня уже сто франков расходу». Свою великовозрастную дочь (седеющие усики) он еще надеялся выдать замуж (они рассматривали всякого рода интеллектуальные собеседования именно с этой точки зрения). Их облику, атмосфере всего дома придавала особую серьезную убедительность близость тюрьмы Сантэ {18} : в окна маячили ноздреватые стены.
К нашему приходу большинство уже собралось. Там был один русский барон, специалист по Талмуду, один грузинский дипломат, несколько, вероятно небогатых, голландцев, солидно объяснявшихся по-английски; два французских писателя (похуже), дамы (докторши – без прав), инженер-изобретатель, ищущий капиталиста, кинематографический режиссер (гордо утверждал: «Я граблю, но не ворую»), журналист Глеборис, румынский подданный, сотрудник американских газет, еврейский поэт Латис, специалист по литургии; критик Панис, из тех ограниченных знаменитостей, что необыкновенно почитают Искусство, – консервативный в своем обязательном модернизме (однажды в каком-то салоне он завел речь о живописи Пикассо и возмущенно встал из-за стола, не в силах больше вынести ересей своего невежественного соседа. «Помилуйте, с каким олухом вы меня усадили?» – пожаловался он хозяйке. «Но ведь это Пикассо!» – изумилась та). Явился также издатель бульварных романов. Человек, прошедший сквозь огонь и воду, войны и бунты, подобный пробке: как бы ни завертело – все-таки всплывет. Он много раз взлетал (ворочал миллионами) и столь же часто падал; судя по интересу к данному собранию, можно было догадаться: сейчас в надире [80] . Закаленный в бурях, маринованный в бедах, пухлый, круглый, почему-то в цилиндре, с удивленным взглядом дитяти, сделавшего пакость. Утверждали: если раздеть его догола и бросить в Сену, Тибр или Неву, то через полчаса он позвонит у ваших дверей – в цилиндре, фраке, белом жилете. Ему принадлежал отвратительный афоризм: брать деньги на проценты – это как держать на своих руках младенца, когда тот мочится: сначала становится тепло, а потом холодно. Пришла старая, накрашенная теософка, достойная лучшей участи: она занималась собачьим туалетом. Мыла, стригла. (Злые говорили: «делает пуделям маникюр».) Было еще двое чинных французов-инвалидов с розетками в петлицах да столько же безработных русских, все чаще и чаще поминавших московские блюда (когда они жевали – если глядеть в профиль, становилось страшно). Вся эта компания, за немногими исключениями, встречалась впервые. А те, что уже были знакомы, отнюдь не питали друг к другу симпатий. Барон имел какие-то основания не выносить общества дипломата и специалиста по литургии; бесправные докторши ненавидели Жэм-Лафранс; еврей-француз не любил еврея-румына, считая его варваром (последний же предательски норовил подчеркнуть равенство, казня его такими выражениями, как: «Мы, евреи, нас, евреев»). Дама, постоянно живущая в Лондоне, оглядев Жэм-Лафранс, сообщила, что Англия – единственная страна, где еще можно чувствовать себя в Европе: вечером мужчины в смокингах, драгоценности довоенные, а если на даме мех, то это мех, а не кошка. Теософы шпыняли баптистов, баптисты православных и католиков, социалисты мистиков, – и курили. Воздух так наполнялся дымом, что даже некурящие, желая иммунизировать легкие – задохнуться! – должны были взять папиросу. Курили беспрерывно для того, вероятно, чтобы создать какую-то видимость занятия, дела: немыслимо взрослым сидеть неподвижно часами и трепать языком. Вот и доставали ежеминутно портсигары, мяли в пальцах, чиркали спичкою (следя за пламенем), забрасывали голову и пускали, развлекаясь, дым вверх, в сторону, кольцами (беседа могла продолжаться потому, что курили; курили потому, что беседовали). Бесправная врачиха, естественно, расходилась в оценке политического момента с «правною»; она неизменно заканчивала свои доводы следующей фразою: «Во всяком случае, тут еще будет весело». И только двое безработных да инвалиды-французы, не стесняясь своих откровенно помятых костюмов, доброжелательно озирались, хихикали, предупредительно вставали, искренно радуясь культурному шуму, нарядным дамам и чаю, – не ища уже никаких личных выгод, образуя последний островок бескорыстия и отзывчивости. Наконец появился Свифтсон – один (к моему удивлению, больше никого из друзей не было). Отказался от чая, не глядя по сторонам – знал уже слушателей, – после краткого вступления («чрезвычайно интересуюсь вашим мнением деловых людей и прошу, не стесняясь, высказаться») приступил к чтению. Посредине доклада проскользнул Вторык (не то поляк, не то малоросс, он себя упорно выдавал за русского дворянина): присел у двери с напряженно-участливою физиономией. С минуту внимательно слушал, стремясь приблизительно нащупать тему (посетив на своем веку тысячи лекций, он в этом отношении был мастак); ухватив суть, он начал оглядывать присутствующих, сосредоточенно целясь, в первую очередь отмечая, кто из окружающих влиятелен, может пригодиться, чтобы во время перерыва успеть поговорить, поздороваться; с любопытством задерживаясь на незнакомых, но встречая их ответный внимательный взгляд, озабоченно отворачивался (уж не жид ли?); потом он перешел к женщинам, отметил всех, еще могущих нравиться, подолгу останавливаясь, возвращаясь к наиболее желанным, но, встретив ответный настойчивый взгляд, трусливо жмурился (уж не шлюха ли?); третьим его безотчетным поползновением было выяснить процентное отношение евреев; потом задремал на стуле с томно опущенными веками, в привычной, жульнической позе интеллектуального послушания, дожидаясь конца. Почти все мужчины носили очки и по свету в стеклах делились на две неравные половины: первая, меньшая, – молодые, преимущественно близорукие, с вогнутыми чечевицами; вторая – старики, дальнозоркие, с выпуклыми – по-разному отражавшие лучи. Если смотреть сверху (например, стоя), то поражало чрезвычайно комичное выражение множества лысин: несмотря на обилие, каждая имела свой собственный лик, эмоциональный тон, идею. Были жирные, властные, большие, лоснящиеся, были мелкие, желтые, сморщенные, были совсем жалкие, дряблые, неприкаянные, на костлявых, лопоухих черепах. Они шевелились, склонялись, точно какие-то постыдные злаки, в разные стороны, никли долу, слабые, беспомощные. Один старичок доверчиво пристроил свою паршивенькую, похожую на зад рахитичного младенца, к косяку, у самой дверной щели – вот-вот щелкнет орешек! – и ангельски не то заснул, не то умер. В общем, доклад Свифтсона понравился по своему духу, однако все требовали слова, желая немедленно указать на коренные его ошибки, улучшить, изменить, дополнить. Журналист Глеборис считал это предприятие даже социально вредным, распыляющим силы сознательных бойцов в нашу грозную историческую эпоху. «Революция началась когда-то в Англии! – заявил он. – Перебросилась во Францию, триста лет спустя пришла в Россию. В Англии революцию делали аристократы, во Франции буржуа, в России рабочие (классы, которые приняли на себя тяжесть переворота, таинственным образом зафиксировали себя в тех странах, сохранились, быть может, навеки). Мы видим, что революция идет с запада на восток и сверху вниз. Таким образом можно предсказать, что следующим этапом революции будет Китай (либо Индия), а сделают ее – крестьяне. Вот куда надо обратить все внимание, ибо это последний акт данной пьесы. Последний, самый многочисленный класс – резервы, недра земли – выйдет на арену, начнет себя реализовывать. Дальше – неизвестное, ничто или переселение на Марс. А что если резервы окажутся тупыми, жадными муравьями, пресными, экономными, беспощадными пчелками? Я зову направить туда вашу волю, и они будут тем, чем мы захотим. Долой мармелад!» Хозяин дома (юридические аборты) торжественно попросил Свифтсона дать ему пожать руку.