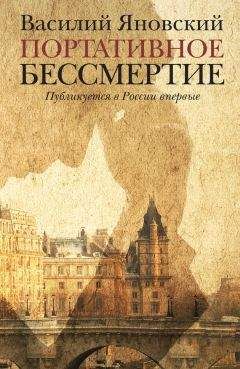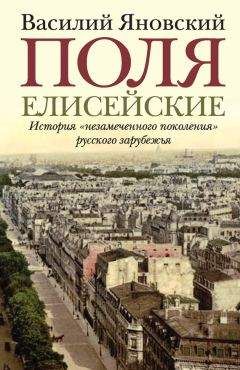Василий Яновский - Портативное бессмертие
За углом напуганная, проголодавшаяся, уродливая девочка-старуха приближается. “ Tu m’amènes? ” [71] – и чмокает языком… без всякой надежды меня прельстить. Простоволосая (со следами давней завивки), она повязана платком; в то кафе, где элита околотка, ей, очевидно, доступа нет (здесь строги законы иерархии). Дряблое, раскрашенное, узкое (средиземноморское) лицо, темные, страдальческие глаза кашляющей лошади, да игриво-подлая, до смешного нелепая, кривая (подплывшая) маска улыбки. Подъезжает порожний таксист, с минуту прислушивается к ее странной речи, вдруг извергает блевотину оголтелой, условно-замысловатой ругани: без особой ярости, походя, преследуя чужую здесь, безжалостно и скучно уничтожая. А она, соображая только, что ей грозит опасность, начала трусливо-псино картавить, заигрывать и с ним, привычно-неуверенно лебезить, хихикать, забыв там, где лицо, жалкую, ложно-пленительную маску набекрень. Толстый, багровый, жирный хам улицы – я видел его освежеванную тушу сегодня в мясной, – он мог бы взять эту за медяк или даром, пугнув, но не хочет. У него другие планы. «Господи, – говорю, поникнув, судорожно, отчаянно взывая. – Вот на тротуаре наша мать или дочь. Выгребная яма там, где сыны твои. Господь, хвала Тебе, аллилуйя, осанна. Чую в себе силу Твою и мудрость, помоги же, научи!» Минута упоенной борьбы (свет, будто отраженный с черного экрана – антрацита, описывает в душе круг, подобно фарам маяка). И опять косная перспектива неподвижных стен и сеть столбов. Накрапывает (все озорнее) дождь. Плетусь понурившись; поднят воротник. Есть что-то богоборческое в тяжбе человека с дождем. Вначале разумно пробуешь переждать. Постоишь безрезультатно (кажется, стихает). Решаешь добежать (держась навесов, тентов, веранд), но и он мгновенно удесетеряет, – итог один. «Черт с тобою! – скрежещешь. – Лей! Врешь. Не позволю издеваться. Теперь все равно: свое делаю, не уступлю. Пожалуйста, даже усиливай, обязательно усиливай, ненасытная утроба!» И в конце, мокрый, паршивый, безразлично шагаешь развинченной походкой, не разбирая пути (все равно уж!), угрюмо смакуя обиду: ближе кров – и ливень заметно стихает… А когда дойдешь – известно! – прекратится совсем.
Часть третья Анализ
Et ce fut tout.
Flaubert
[72]
1
Улицы тянулись – многие однообразно. Кафе, синема, сквер, церковь, магазины, полицейский на перекрестке. И снова: кафе-табак, сквер, синема, аптека, полицейский. Только на кое-где висевших часах заметна была перемена: передвигались стрелки. И оттого мнилось, что я шагаю ногами по времени. Перла толпа: несколько серий женщин с прическами и раскраскою знаменитых актрис, мужчины, напоминающие полузабытых знакомых или зверей. Спешили, торговали, рвали из рук, сплевывали, на ходу читали газеты. Те же две или три газеты поглощались миллионами; там, более или менее одинаково недобросовестно, подавались новости, комментарии, инсинуации и сплетни; полицейский роман обрывался неистовым метранпажем [73] на том же слове в миллионах экземпляров. Ежедневно люди повторяли то же самое: миллионы, как один! Имелось несколько (две, три) серий таких миллионов, которые своим различием в мелочах (не английский переводной роман, а немецкий; не тот виновен во всем – его следует уничтожить! – а этот) только подчеркивали свою однокачественность. По радио передавались те же (или подобные) диски; всюду аппараты маниакально повторяли, в ведро и ненастье, те же мотивы (по странной случайности, не поддерживая друг друга, а, наоборот, враждуя, заглушая).
В кинематографах давали фильмы – один, два, три для целого квартала (тот же в десятках мест); так что зрители в разных театрах, даже в разное время, воспринимали убийственно похоже препарированные вещи. Они слышали тот же отраженный голос, ловили плоские фигуры; они смотрели вперед на экран, в то время как пленка действительности находилась позади; они следили за движением губ в центре, а голос вырывался из трубы сбоку. Им подавали все одно и то же – как на фабриках-кухнях! – раз, раз, следующий! Среди мыслей и чувств, им преподносимых, могли затесаться даже нужные, творчески желанные, но пропущенные через систему винтов, приборов и стекол, они, подобно продуктам питания, подвергшимся действию времени и огня, неминуемо теряли основные, живительные свойства, вызывая (постепенно) убийственные аномалии в развитии, обмене и росте. В течение десятилетий, тщательно подобранной пищей, при помощи оскопляющих вибраций и разрядов, производилась эта страшная метаморфоза. Перерождались, оглушались, одурманивались – сложнее машина, проще человек, – превращались в стада, управляемые двумя-тремя свистками. Выполняли, сериями, ненужные обязанности; в полдень ели, пили, курили; но как ядро, если его долго толкать, а потом отпустить на мгновение, будет продолжать всё катиться, так они: даже в часы досуга продолжали оставаться во власти параллелограмма одноименных сил. Под вечер выбегали из ворот магазинов, фабрик, лабазов, контор, будто спасаясь от пожара или землетрясения. Стремясь наверстать, возбужденные хвостиком замаячившей, несколькочасовой свободы, опьяненные близостью чудесных задушевных возможностей: обед в кругу семьи, беседа с изуродованною женой, ласка ребенка с китайскими башмачками на душе, сексуальная встреча. Конвульсивно проделывали путь назад с тою же плененной обусловленностью (так на экране – если смотреть фильм во второй, третий раз – снова драматически вскрикнет дива, произнесет выспренные слова и, наконец, в том же мистически-механическом сочетании, упадет замертво). До ближайшего пассаж клутэ [74] , метро, автобус. Контролер с четырехзначным номером на околыше продырявит шестизначную цифру билета. Люди, набитые в вагоны, как гурты, автоматически начинали жевать жвачку (вот-вот замычат!), животно оглядываясь на подобные себе – при всем различии – носы и томительно ждущие тела. Стиснутые, сдавленные: перед к заду, бок в бок, вдыхали запахи пота, тела и дамской косметики. Вагоны мотает; переваливаются теплые инертные туши (такое – свесить и продать на килограмм живого мяса). Пересаживались, лезли вон из шкуры на узловых станциях, а навстречу спешили – отражения – подобные же табуны; единое рассыпалось на части, части пачками соединялись, образуя новое целое (то же рядом: там, тут, сверху), уподобляясь саламандре, гигантской амебе с меняющимися, текучими контурами, или, еще лучше: симбиоз нескольких примитивных чудовищ с общим туловищем и торчащими врозь, личными, собственными конечностями – лапы, когти, хвосты и челюсти. Существа штамповались издавна, незаметно подвергались ритму тех же воздействий; тяжелые прессы равным образом давили, сплющивали, производя – слой за слоем – знакомые опустошения и вывихи. В какой-то срок более сознательные попадали в тенета двух-трех плоских идеек – разменная монета для купли и продажи (на все случаи жизни), медяки со стертыми орлами. (Что общего между пятаком и тем силуэтом, который старый мастер-гравер из глуби своего опыта рождал – чертил, лепил, строгал и, наконец, предложил судьям.) Две-три основные, облегченные мыслишки циркулировали; но питались они только одним чувством. Чувство это было: виноват вон тот (или этот), его нужно поскорее убрать. Враг – класс, народ, церковь, раса – превращался в священное животное, тотем, табу, фетиш, гипнотизируя, сковывая. Уничтожать желали все (на этом бы могли объединиться), но расходились – в объекте. Ибо тот, кого хотели испепелить, имел свои газеты, церкви, мощи, хоругви и призывал к сокрушению первых (или третьих), столь же убедительно это обосновывая. Между самками и самцами шла своя исконная распря; преследования, ложь, капканы, истязания, самопожирание; тянулись, охочие, подобные в своем противопоставлении, рвались, топтали, терлись, норовя дорваться до чужих богатств (чем спорнее были права, тем это больше прельщало). Пассажиры 1-го класса подвергались приблизительно тому же (относя только свои ощущения к другой шкале: так впечатления утки, живущей восемьдесят лет, и мотылька-однодневки, должно быть, равны). Богатые, после угарного, вдвойне потерянного дня, садились в собственные машины (или в такси), попадая, соответственно, в другие, столь же отвратительные (для них) колонны, подчиняясь законам, обязательным для особей данного вида. Возмущаясь, проклиная, хулиганя, застревали в длинной веренице экипажей, а небо лютой ярости покрывало всех. Любители-шоферы враждовали с профессионалами; шоферы частных лиц с таксистами; шоферы автобусов считали себя избранным племенем (им покровительствовали псы-полицейские); между велосипедистами, мотоциклистами и четырехколесными существовал извечный конфликт; и наконец, всем мешали пешеходы (с другой планеты) – содрогаясь, покрытые испариною, яростно прыгали меж колесами, лелея мечту о дне мести. И все вместе, похотливо оборачиваясь, высовываясь, наклоняясь, скользя и проваливаясь, среди гула и смрада, в перекошенных масках, – изрыгали хулу. «Мерд», «ваш», «имбесиль», «ном-де-шиен» и «та гель» [75] торчали в уплотненном, зачумленном городе. Воздух кругом густел, становился жидким от многих слоев ненависти и вожделения; разнокалиберные волны страстей отнюдь не заглушали друг друга, а, наоборот, взаимно заряжались энергией. И только сыновья архимиллионеров, безумные и пяток диких героев пробовали выскочить из этих законов инертной материи. Но тяжелый, ловко прилаженный топор норовил сразу отсечь все, что выпирало хоть на один сантиметр. Вокруг же городов окопались мужики; о последних ничего нельзя было сказать определенного, как о глубинных недрах земли: золото ли они хранят, уран или только всесжигающую лаву… Чувствовался где-то близко чужой, холодный и жестокий судья, враг, ждущий, подобно ледникам, тайного знака для очередного, стихийного нашествия. С полудня субботы на воскресенье – игра. Сразу берутся за карты, вооружаются киями, лакают свои два-три излюбленных напитка – в том же размноженном кафе: так и не осуществив мечту о пятой масти. Вечером звонят в кинематографах, и обыватели степенно бегут туда с детьми и любовницами, словно к мессе. За карточным ковриком сидят трое: ждут четвертого, как утешителя (но пятый уже лишний). На тротуарах мужчины охотятся за счастьем; в условленном месте – у театра, сада, дансинга – встречаются целую неделю протомившиеся влюбленные. В ночь на воскресенье город совокупляется. Захваченные круговыми волнами похоти, очумелые, полуслепые старцы вдруг просыпаются и трупно припадают к своим женам. Проститутка, что на неделе стоит 5 и 10 франков, в этот вечер требует 25 и 50; отельные комнаты – дороже; аптеки и связанные с любовной чехардою магазины (цветов, духов, сластей, камней) открыты ночью. Праздничным полднем все – спринцуются. В будни жизнь нелепа. Но как поведать о скользкой пустоте воскресного дня…