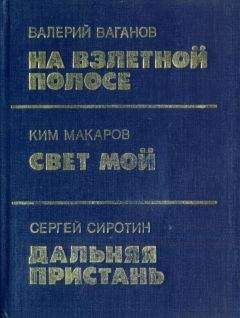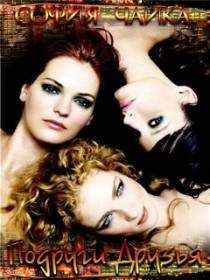Игорь Соколов - Двоеженец
– Господи, какая грязь! – поморщился я.
– Зато он всегда доволен собой, – подмигнул мне левым глазом Вольперт, а в это время Моня неожиданно завыл от удовольствия.
– Это скотство, профессор!
– Нет, это дух, сокрывшийся во плоти!
Порок, развившийся от скуки в темноте!
И все, чем вы, друзья мои, живёте
По своей душевной простоте!
– Меня сейчас вырвет, – признался я.
– Да, ладно уж, – засмеялся профессор, – разве вы никогда этим не занимались?! Признайтесь же, что еще в школе, когда вы встречались со своей Эльзой, которая постоянно вас била книжками по голове, вы потом отчаянно вспоминали каждый кусочек ее открытой ножки и…
– Замолчите немедленно! – закричал я, – и потом, откуда вам все это известно, вы что – телепат?!
– А разве вы не вели свой дневничок, дневничок-ученичок, но без отметок, – лукаво покачивая пальчиком, рассмеялся профессор.
– Дневник?! – испугался я, – вы глядели в мой дневник! Ах, теперь мне все ясно! Однако вы не имели права глядеть туда, профессор! Никакого морального права!
– А разве вы имели право дотрагиваться своими грязными руками до покойниц?! Осквернять их прах, осквернять память их близких?! – изменился в лице профессор.
– Я этого не делал, – прошептал я, – я этого не делал! Они все были живыми, они просто спали, и потом, какое ваше дело, кого хочу, того люблю!
– Вот вы и раскрылись, – засмеялся Вольперт, – ладно уж. Пойдемте дальше, – и он подтолкнул меня к следующей двери, которая показалась мне абсолютно бесцветной, то есть я видел в ней как в черно-белом кино слияние трех цветов: черного, белого и серого, и мы вошли в совершенно темное пространство… Неожиданно исчез не только сам профессор, но и его голос…
– Где я?! – испуганно пробормотал я.
– Вы здесь, – ответил мне не менее боязливый тенор.
– Вы кто?!
– А вы кто?!
– Ну, ладно, это я… Простите, но я, кажется, забыл, кто я?!
– А я Сан Саныч, – представился незнакомец.
– Давайте, найдем выход, – предложил я.
– Бесполезно, я пытался, – глухо отозвался Сан Саныч.
– И давно уже вы вот так в темноте?!
– Да уж, не помню, черт возьми! – раздраженно прокричал в темноте Сан Саныч, – не помню, и все, как будто память отшибло!
– А вы не пробовали ощупывать стены?!
– Ну и пробовал! – тревожно откликнулся Сан Саныч.
– Ну и что?!
– А ничего!
Тогда, не желая отвлекаться на Сан Саныча, я сам попробовал ощупать стены, но они были очень мягкие, как будто сделанные из поролона, и еще они как-то странно проваливались куда-то в пустоту, и все было страшно и непонятно, потому что пространство скрывала кромешная темнота.
– Да, здесь, черт знает, что такое, – с ужасом прошептал я.
– И темно, как в преисподней, – сочувственно отозвался Сан Саныч.
– А как вы сюда попали?!
– Да, меня Вольперт привел! Говорил, лабиринт какой-то покажет!
– О, Господи! И меня тоже!
– Не может быть, – простонал Сан Саныч, – это ж просто наифигейшее сходство!
– А он вам ананиста показывал?!
– Пока-ка-ка-ка-ызвал, – прошептал, заикаясь, Сан Саныч.
– И мне тоже, – обреченно вздохнул я.
– Вот гад! Всех вокруг пальца обвел! – громко заругался Сан Саныч.
– А вы кем там были?!
– Где там?!
– Ну, в той, в прошлой жизни!
– Не помню!
– И я не помню!
– Может, поэтому он нас сюда и завел?! – испуганно всхлипнул Сан Саныч.
– Давайте все-таки дверь искать, – предложил я, – вы с этой сторонки, а я с другой!
– С какой еще такой другой?! – раздраженно выкрикнул Сан Саныч, – и вообще я боюсь до стен дотрагиваться! Они все время куда-то проваливаются! А когда проваливаешься, то до конца все равно провалиться никак не можешь! Вот ведь анафема какая! Из чего он только все это сделал?!
– Может, из поролона?!
– Да, какой там поролон?! В поролоне хоть дырочку можно сделать, а здесь тебя вообще какая-то непонятная атмосфера окутывает! Куда ни сунься – везде вроде как исчезаешь! Прямо блядство какое-то!
– Пожалуйста, не ругайтесь! – взмолился я.
– А вот уж, хуюшки! – радостно засмеялся Сан Саныч, и я замолчал.
Он ругался очень долго и восторженно, вроде как наслаждаясь незамысловатой грубой формой собственного языка, и временами у меня создавалось впечатление, что он читал панегирик7в честь загробного Царства.
– Эй, где вы, – опомнился наконец Сан Саныч, отзовитесь, а не то я опять заругаюсь! Слышите вы меня?!
– Ну, что Вам? – отозвался я.
– Мерзавец! Разве так можно пугать?! Так ведь и сердце может остановиться!
– Не думаю!
– Не думаю – не думаю, вот именно, что не думаете?! Без-молвник вы этакий!
– Странно, откуда у вас такое слово возникло?! – задумался я.
– Да так, само собой проговорилось!
– Нет, я вспомнил это слово, – вдруг озарило меня, – вспомнил, это у Иоанна Лествичника было, это его Слово! Я его давно когда-то читал!
– Уж не хотите ли вы сказать, что вы разговариваете сами с собой?! – возмутился Сан Саныч.
– Да, нет, что вы?!
– И что же говорил вам этот Иоанн?! – злорадно усмехнулся в темноте Сан Саныч.
– А говорил он, что безмолвники только в абсолютной темноте ощущают свою правду!
– Да идите вы на хрен со своей правдой! – возмутился Сан Саныч, я жрать хочу уже второй месяц, а вы мне все со своей правдой лезете!
– Не может быть, – охнул я, падая на такой же мягкий проваливающийся пол, – здесь даже тверди нет!
– А ты думал, – вздохнул Сан Саныч, – Вольперт-то знал, куда ведет, да мы с тобой не знали, поэтому сюда-то и попали!
Неожиданно он перестал говорить и заплакал, а я не мешал ему, я только вслушивался в его жалобный плач и думал о какой-то странной, удивительной тайне, легко и случайно помещающейся в наших мозгах, быть может, из которых улетучивается не только наша душа, но и прежнее ее тело, чтобы возникнуть вдруг там за темнотой, в других мирах и обратно вернуться к готовому телу, из которого ты когда куда-то ушел…
13. Власть пустоты
Именно такую фразу я когда-то прочитал, сделав свой перевод с английского на коробке пылесоса… Пылесос действительно внутри был пуст и все втягивал в себя, нисколько не заботясь о последствиях. Кажется, в этом он был ужасно похож на Космос или даже на черную дыру, существовавшую в нем, которая тоже все втягивала в себя и не возвращала обратно. Вот так же и мы выбрасывали все содержимое пылесоса в отхожее место, как будто Космос выбрасывал нас из себя в такое же отхожее место, каким для нас была черная дыра.
Последние события моей жизни, включая разоблачение Штун-цера и мое воцарение на его место, сильно изменили меня. Я как будто подошел к тому времени, когда все люди делаются пустыми, уставшими от детства и даже от юности и зрелости одновременно, как будто все давно уже прошло и навсегда покинуло нас. Моя Гера на кладбище, мои родители в Израиле, моя новая должность, мои новые знакомые – ничего не могло изменить меня.
Время моей пустоты, моего духовного обнищания, как ни странно, пришлось на почти ушедшую юность.
В это время все мои сверстники тайно или явно находили себе девушек или женщин, с помощью которых целиком осознавали себя половозрелыми самцами, я же прозябал, и дело было даже не в памяти о Гере, которая каждый день все меньше напоминала о себе, просто от увиденного и пережитого мной мне стало трудно мечтать о какой-то наивной и чистой любви, и вот от того, что я не мог нигде ее разглядеть, я и был угрюмым и пустым внутри.
Я глядел то на себя в зеркале, то на часы и говорил сам себе, что мое время уходит без следа, стрелки часов бессмысленно вращались по кругу, а я жил только работой, пустым жилищем, книгами и телевизором, который включал лишь для того, чтобы хотя бы на час убедиться, что еще пока живу на земле. Я был как бы другим существом, даже наблюдая за собой в зеркале, я видел совершенно незнакомого мне человека. Я почти не писал родителям писем, я молча удалился от всех, почти не отвечал на телефонные звонки Ираклия, Бюхнера и Эдика Хаскина.
Кроме всего прочего, меня измучили эротические сны, часто сопровождавшиеся ночными поллюциями8.
От несовершенства своего рассудка и своей же воли я уходил в лес, уезжал куда-нибудь за город и ложился на траву, на опавшие листья и подолгу глядел на небо, на плывущие в нем облака. Была осень. Я, как всегда, лежал на опавшей листве. Так мне легче было думать. Еще я закрывал глаза и жадно вдыхал запах прелых листьев.
Край леса постоянно шелестел и под каждым взмахом ветра становился все темней и обнаженнее, и некоторые листья падали мне на лицо, а я их даже не сбрасывал, я просто наслаждался своей безумной отрешенностью, ведь здесь никого не было, а жизнь для меня уже ничего не значила. Душа всегда куда-то стремилась, но мое тело скрывало в себе душу, как птицу в клетке, и я мучился.