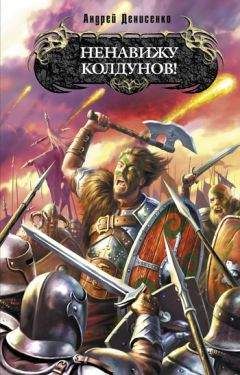Роман Сенчин - Мы памяти победы верны (сборник)
Она и не думала, она терпеливо пережидала время свиданий с отцом, чтобы потом уйти пережидать жизнь с матерью и отчимом. Так же покорно она отнесется к первому попавшемуся субъекту, попросившему её руки. И не попросившего, просто, заметив эту странную покорность, овладевшего ею, чтобы потом помыкать. И ребенка она родит покорно, и о смерти отца не заплачет.
Удивительно! Если бы не мальчик в гимназической куртке, он никогда не попросился бы в армию Юга. Ему было все равно – Таганрог, Ялта, лишь бы рядом. И никогда он так не желал победы немцам, как при взятии Таганрога. Город был нужен им для каких-то своих стратегических назначений, ему же – для прогулок. Пусть в сторону, но по тем же улицам, где гулял писатель, которого он упорно считал чехом, а кем другим мог быть человек с такой фамилией? Рассказы его он читал почти все, пьесы все видел, подробности биографии были ему известны, Ольга Чехова, племянница, была не только любимой актрисой самого фюрера, но и Филипа Коваржа тоже. Он чувствовал себя почти родственником.
Однажды, когда соседа не было, он вернулся из госпиталя, как всегда пытаясь почувствовать её взгляд из темноты, но ничего не почувствовал и, только когда зажег свет, обнаружил её сидящей с ногами на его постели у стены, обхватив коленки. Прошло много времени, пока они молча разглядывали друг друга.
Она была так хороша, что, встретив её еще один раз при полном свете, он бы лица не запомнил. Так ему показалось. Оно не нуждалось в запоминании. Оно возникало по собственной прихоти и казалось таким, каким хотело.
Она сидела, глядя на него исподволь, и он никак не мог убедиться – такие ли уж малахитовые её глаза. Филип уже набрался смелости, чтобы спросить о чем-нибудь, как вбежала её мать, никакая не тетка, именно мать, схватила её за руку и поволокла к дверям, причитая:
– Забудьте, господин офицер, ишь чего выдумала, я тебя сейчас на улицу выброшу, вот тебя полицаи и сдадут в публичный дом, а постель я вам сейчас перестелю, господин офицер, ничего не подумайте, она девочка чистая, только напуганная, дурная, что молчишь, дрянь, проси прощения у господина офицера, он человек добрый, хоть бы тебя уже поскорее с глаз моих в Германию угнали, ну разве можно это терпеть в родном доме?
Филипу хотелось успокоить её, попросить замолчать, но для этого нужно было взять себя в руки, а это не удавалось, он только успел перехватить её взгляд у самых дверей и убедиться – малахитовые.
Соседу своему он ничего не сказал. Тот пришел поздно, чрезвычайно чем-то недовольный, что-то пытался рассказать о хлебозаводе, где проворовались местные, потребовал у хозяйки поесть, не доел, завалился спать.
Тогда-то ночью он и вспомнил о доме, в котором никто не хотел жить, о хозяйке, заговорившей по-немецки, когда офицер, расквартированный туда, в присутствии ординарцев стал ругаться, обнаружив в красивом со стороны улицы особняке грязь и запустение.
– Это частное владение, – сказала на его родном языке хозяйка дома. – Оно принадлежит мне, только мне. Я вас сюда, господин офицер, не приглашала. Как вы смеете приходить в чужой дом без приглашения и ругаться дурными словами?! Я преподаю немецкий язык уже много лет и могу вас уверить: в нем есть много прекрасных слов, но только не те, что вы сейчас произнесли. Но вам, наверное, ваши кажутся прекрасными. Тогда прошу вас, покиньте дом и ругайтесь на улице! А может, вам захочется меня расстрелять? Что ж, стреляйте прямо здесь, ничего не изменится, я не стану убирать для вас квартиру, даже если вы меня убьете!
Растерянный офицер долго извинялся, даже пытался поцеловать ей руку, извиняясь, но почему-то замешкался, прикоснувшись, и долго еще тер руку платком в прихожей, куда она не пошла его провожать.
– Великолепный немецкий у этой ведьмы, – сказал он ординарцу. – Великолепный! Несомненно, она немка. Но жить здесь нельзя. Никому! Надо попросить её анкету в магистрате. Что за странный город! Кого здесь только нет. Немка, ненавидящая чистоту и порядок. Невероятно!
…Нет ничего, что я не могу изменить. Не было ничего, что я не мог бы изменить. Ничего не изменить…
– Это хорошая женщина, – сказала Машина мама, когда на следующий день Филип поделился с ней своими планами. – Но зачем вам нужна Машка? Что вы задумали, господин офицер? Если что, я её в плавнях утоплю, чем отдам на поругание! Вы, наверное, подумали, что я вам её сама подсунула? Да, я её еще вчера убить хотела, а потом взглянула – какая же она у меня крохотка, и так на душе тревожно стало, легче самой в гроб лечь, чем увидеть, что с ней станется. Ей бояться надоело, она вам и открылась. У вас лицо хорошее, по-русски понимаете.
– Я чех, – сказал Филип. – А здесь я лечу людей в госпитале, я военный врач.
– Чех?! – закричала она. – О, господи! А я думала… Так вы чех? Машка проклятая, иди сюда, да иди, не бойся, он тебя уже видел, он чех, доктор, его пугаться не надо. То-то у него лицо другое, не такое строгое, надменное, наше лицо.
– А мундир? – спросила Маша из темноты.
– Какой мундир? – сказал Филип. – При чем здесь мой мундир, когда речь идет о вашей жизни?
– Слышишь, дура, – закричала мать. – Он не солдат, он доктор, он добрый.
– Он фашист, – сказала Маша, войдя в свет, падающий из окна. – Ведь этот мундир – фашистский?
– Да, – сказал Филип, сдерживаясь. – Я фашист. Но это не значит, что я не способен вам помочь.
– Слышишь, дочка!
– А зачем мне помогать? Вам меня жалко? С чего это вам, фашисту, и вдруг жалко? Что вы задумали?
– Послушайте, – сказал он, начиная испытывать невероятное раздражение. – Если я вас обидел, то давайте забудем этот разговор. Просто я не вижу другого способа помочь вам. А почему я хочу помочь, этого я и сам себе объяснить не могу. Больше, чем уйти к той женщине вместе с вами, я ничего не могу придумать. Если за вами придут сюда, вряд ли я сумею вас защитить.
– Но там же жить нельзя, – сказала Маша. – Я, еще когда девчонкой была, туда с заднего хода лазала, там помойка.
– А где не помойка? – спросил Филип неожиданно для себя. – У вас в душе, у меня в душе, у вашей мамы? Война! Только поняв – зачем она, можно избавиться от грязи, а так – страх, смерть, помойка. Я доктор, я знаю, у меня каждый день кто-то мрёт, кто-то выживает. Вас я зачем-то хочу спасти.
– Хорошо, – сказала она. – Но никогда, поклянитесь перед моей мамой, вы никогда не позволите себе прикоснуться ко мне.
– Что ты говоришь, – залепетала мать. – Ну конечно, господин доктор не прикоснется. Ты же слышала, он чех, он доктор. Он обещает, что все будет хорошо. Вы обещали, господин доктор.
– Соберите ваши вещи, – сказал Филип. – А я пойду в тот дом. Мне почему-то кажется, нам не откажут.
Он не внушал страха. Вот и все, чем отличался от остальных. Он мог нарушить это несходство, переступить черту, но почему-то не делал этого, оставаясь непонятным в своих намерениях, и она постепенно привыкла к такой неопределенности, считалась с нею. Это было уже много – не причинять боли, и даже казаться человеком, не будучи им, тоже много.
«С каким доверием ты смотришь на меня, будь проклята эта жизнь, разве я заслуживаю доверия? Разве это заслуга – быть лучше тех, кто рядом со мной, и лучше ли я? Кто знает, о чем они думают по ночам и что им не дают совершить днем. И разве они виноваты, что стреляют, а он лечит?»
Ему повезло. Он учился в Праге, не думая о войне, мечтая уехать куда-нибудь в провинцию, практиковать, превратиться в достойного обывателя. В фашистскую чешскую партию он пошел только потому, что не мог больше в Чехии чувствовать себя человеком второго ряда, даже у себя на родине чехи пытались поднять голову, а их лупили по этой голове – немцы, венгры, поляки, все, все кому не лень. И он хотел заявить громко, вместе с единомышленниками, что никогда не согласится с таким порядком.
Гитлер был ни при чем. Гитлер был ни при чем до тех пор, пока не придумал отколоть Судеты и покончить со всеми мечтами Филипа одним махом. Присоединенная к великому Рейху Чехия стала протекторатом и разделилась на Богемию и Моравию. Географически она снова не принадлежала ему, но морально он дал себе слово быть на равных с победителями, ни в чем не уступать, добиться, чтобы они нуждались в нем, Филипе Коварже, зависели от него, хотя бы как от врача, а война создала огромное поле деятельности. Она стала практикой боли, отчаянья, преодоления отчаянья и боли. Она подхватила тебя и завертела. Ты уже не нуждался ни в чьих советах. Ты путался, скрипел, вертелся вместе с войной. Ты жил не в норе, исходя злобой, ненавидя оккупантов, ты был равным им, в некоторых обстоятельствах даже главнее.
И, в конце концов, война это всегда путешествие, Россия почти родина. Он хотел побывать в России и оказался здесь. Ничего плохого не сделал, не убивал, не расстреливал, спасал людей. Он ни на шаг не отступил от самого себя. Все, как мечтал отец: чех, доктор, солдат. Да здравствует великий Рейх от моря до моря!