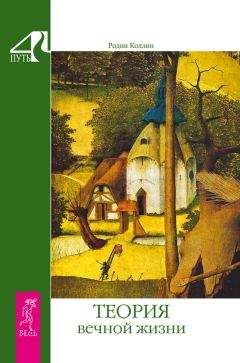Дмитрий Иванов - Как прое*** всё
Такая пидарастия называется пафосом.
Я представлял себе славу иначе. Захожу в книжный. Меня не узнают. Потому что меня не знают в лицо, а в лицо не знают, потому что меня не зовут на ТВ. Один раз позвали – Татьяна Толстая и с ней девочка смешная какая-то. Я говорю: «Татьяна Никитична, поехали в баню, и эту смешную с собой тоже возьмем». Смешная обиделась, Толстая согласилась, она мне понравилась, кстати, с юмором женщина. В бане с Толстой про поэзию не говорили, просто помылись, водочки выпили, помолчали. Хорошая женщина. Но больше на ТВ не зовут. И вот, захожу в книжный, спрашиваю девочку-продавщицу: «Родная, ну, как продается мой текст?» Она говорит: «Ой, я сейчас девчонок всех позову». Обнимаются со мной, фотографируют, не люблю это, но терплю, девчонки хорошие, не могу отказать. Говорю: «Ну так как продается роман мой, родные? Никто не купил?» Они говорят: «Ой, что вы, вы на втором месте по продажам после “Как найти мужа”». Я кричу тогда: нет, нет! Подбегаю к покупателям, вырываю у них мою книгу, подписываю ее словом «Нет!», кричу им: «Не надо, не покупайте, это не то! Как вы можете покупать это, вон туда посмотрите, на те полки, – там Пушкин, там Гоголь, там Бунин, там Чехов, там Хлебников, а я, а мы все, мы же так… На фоне гигантов мы карлики, которые пытаются подпрыгнуть». Я плачу. Со мной плачут девчонки-продавщицы. Они не понимают, что я говорю. Но чувствуют. Они все чувствуют. Родные мои. Одна из них меня забирает домой, в Зеленоград, я неделю живу у нее, она меня кормит варениками, поет мне колыбельные русские, я засыпаю у нее на белых коленках. У нее на коленках даже веснушки. Но однажды утром я ухожу. В метель. Она плачет сначала: «Не ходи, не пущу», но я ухожу, и она машет мне вслед через окошко в морозных узорах и гладит свой белый животик в веснушках – в нем мой сын, она назовет его Васенькой. Я не оборачиваюсь. Вот так.
Пафос я отвергаю.
Что же касается славы посмертной – еще раз о ней. Ладно. Пускай. Но это не значит, что при жизни люди имеют право надругаться над героем как хотят. Что это за привычка такая – вытирать о героя ноги? Бляди, он вам не тряпка.
Герой боится всего, чего боитесь вы. Но вы и живете так, как будто вам страшно. А герой живет так, как будто – нет, не страшно.
Уважайте героя. За это.
«Творчество»
Слово «творчество» необходимо запретить полностью. Это слово употребляют только пидарасы. Им оно нравится, это их слово. Они говорят – «мое творчество». Какой позор. Посмотри на себя – ну какое у тебя, сука, может быть «творчество»?
Я употребляю слово «тексты». Сухое слово, ничего лишнего. Только буквы и пробелы. Потому что в начале были буквы и пробелы.
Земфира
Киса поступил в летное, а Стасик Усиевич в актерское – нет. Домой он приехал, как освистанный Шаляпин, – в недоумении. Я спросил Стасика:
– Провалил? Басню?
Стасик признался, что пренебрег моим советом и вместо «Ночь, улица, фонарь, аптека…» прочитал свои стихи. Причем сначала громко заявил, что прочитает Блока, а потом от волнения стал читать свои. То есть стал выдавать себя за Блока. Приемную комиссию стихотворение, в котором символист просит послать его в Кабул, шокировало. Стасику, как было мной напророчено, сказали:
– Приходите на следующий год.
Теперь Стасик не знал, как ему жить до следующей попытки попасть на подмостки. На подметки. В общем, до следующего лета.
И тут я Стасику говорю:
– Слушай, можно же стать поэтами.
Стасик подумал некоторое время. И сказал:
– Ну, да. Можно. Но нужны стихи!
Я сказал:
– Так это хуйня. Стихи будут.
Я сказал так потому, что стихи ко мне пришли, как сказал бы Бунин. Пришли они потому, что я полюбил девушку, которую звали Земфира.
Она училась со мной в одной школе. Она была спортс менкой, прыгала в высоту с шестом. Я тоже в своей внутренней, никому не заметной работе мыслителя то и дело совершал прыжки в высоту. Без шеста. Это намного трудней.
Земфира была долговязая, худая, похожая на заблудившуюся выпь. В старших классах ей дали мастера спорта. Мне это понравилось – что я люблю мастера спорта. Но потом, ближе к окончанию школы, с Земфирой сделался переворот. Не в смысле гимнастический элемент – ими-то она владела. Она прочитала Достоевского и бросила спорт.
Однажды я тайком вынес для нее из секретного хранилища пару неизданных романов Достоевского – и у Земфиры совсем съехала крыша, а меня на месяц лишил читательского билета Гоголь. Скандал был жуткий, к тому же книги Земфира после прочтения вернула заплаканными, то есть сырыми.
Она сутками плакала на мраморном надгробии человечества. После Достоевского я подсадил ее на Хлебникова, и Земфира стала декаденткой. С собой она всегда теперь таскала томик Зинаиды Гиппиус. Ей очень нравилось, что у покойницы-декадентки инициалы такие же, как у нее, и вообще они похожи: обе тощие, нервные, носатые, и обе – З. Г. Только старшая уже померла, а младшая доживает последние дни. В знак своей скорой гибели Земфира взяла псевдоним «Гиппиус». Земфира Гиппиус. Так она просила ее называть. Но я все-таки чаще называл ее короче и ласковей – Зяма.
Она была высокая, выше меня на полголовы. Я полюбил этот печальный блоковский фонарь. Кроме того, я чувствовал ответственность за судьбу Зямы. Ведь это я впервые дал ей в руки томик декадентов, я дал ей в руки черный флаг женской поэзии, черный флаг с черепом.
Мы говорили с Зямой по телефону, ночами. Мы могли проговорить три, четыре часа или пока не начинало светать. Ухо от трубки болело, тогда я прикладывал трубку к другому уху. Но скоро и оно начинало болеть. Ушей было мало, а прекращать разговор не хотелось, было важно все это, хотелось иметь три уха, четыре. Больше никогда потом, ни с кем, я так долго не разговаривал. Конечно, иногда я говорил по телефону с друзьями, они тоже были кончеными романтиками. Или просто кончеными. Но с кончеными мы решали все коротко:
– Есть, – говорил я.
Это значило – есть вино, или наркотики, или то и другое.
– Е! – говорил друг и бросал трубку.
И сам бросался. Ко мне. Ну, или наоборот. Я бросался к другу.
Если с другом вышел путь – веселей дорога. И намного короче.
А иногда Зяма звонила мне и, ничего не говоря, ставила трагическую музыку, положив трубку напротив колонок, а я слушал. А потом, тоже ничего не говоря, в ответ ставил Зяме тоже какой-нибудь трагизм, которого у меня было навалом на виниле. Такой у нас был типа диалог диджеев-анонимусов – считалось, что мы оба не догадываемся, кто это звонит в час ночи и ставит музыку. Это Зяма придумала.
Вне школы мы встречались редко, Зяма была нелюдима. Зяма была радикальная декадентка, можно сказать, фундаменталистка. Поэтому там и речи быть не могло про «пойдем вина попьем, поцелуемся». Все было очень торжественно. Зяма часто ходила гулять в зимний, заснеженный парк. Она любила зиму, говорила, что с зимой они сестры и почти тезки – обе на «з». В парке Земфира накидывала вуаль, которую сшила сама, отодрав предварительно от папиной шапки, ее папа был пчеловод. В вуали Зяма плыла по парку печальной тенью, выслеживая, как охотник-бурят, того, кто даст ей любовь. Земфира искала бурного, всепоглощающего романа. Меня она как кандидата в бурные романы не признавала и говорила, глядя в сторону полной луны:
– Ты друг мой, спутник мой, В пути моем коротком…
Она хотела страдать – так положено по декадентским понятиям. А вместе с ней и даже больше нее самой должен был страдать почему-то я. Земфира стала меня мучить. Она звонила мне ночью, рыдала, угрожала, что сейчас бросится в окно под Рахманинова, или жаловалась, что ее выгнали из дому родители, за то, что она пришла домой синяя и облевала папин замшевый плащ. Я бросался в другой конец города на помощь. Когда я приезжал, Зяма уже сидела на подоконнике, холодная, равнодушная, и смотрела в окно. Я говорил:
– Зяма! Вот я. Ты звала. Вот я…
Зяма смотрела на меня, как на аквариумную рыбку, и говорила что-то вроде:
– Зачем ты здесь… Все кончено. Прощай.
После школы Земфира вдруг исчезла. Никому ничего не сказала, не сказала мне даже «прощай» – просто уехала в другой город, поступила учиться, я не знал, на кого. Следы Земфиры Гиппиус затерялись в снегу.
Но остались стихи. У меня остались стихи, которые пришли ко мне, когда я полюбил Зяму. Иерофанты, надо отдать им должное, держат слово – они ушли, когда пришли стихи. Мы ведь так договаривались с иерофантами.
У меня остались стихи, посвящены они были прекрасной даме с шестом. И непременно увенчивались вензелем «З. Г.».
Карьера поэта
Поскольку мы со Стасиком решили стать поэтами, Усиевич первым делом решил выяснить, как строятся карьеры поэтов. Вскоре мой друг принес неутешительный отчет. Получалось, что поэты в разные времена действительно жили. Но жили недолго и умирали чаще всего в нищете, порой в неглиже, иногда даже и вовсе голышом, в ванной Марата. Не в смысле – Марата какого-то там случайного. Сафина, например. Большой теннис – это другое. Гонорары у поэтов ниже, чем у теннисистов, а ниже они потому, что у поэтов их лучшие матчи не публичны. И вообще, это странно – как поэт может оказаться в ванной Марата Сафина? Это же скандал. И не в смысле Марата Казея, хотя мальчик был герой, я настаиваю на этом, и даже, в конце концов, я об этом прошу. Нет, не в ванной Казея, у пионера не было личной ванной. Я имел в виду французского революционного мясника Марата, который, как известно, помылся однажды в ванной в крови, своей. До этого мылся в чужой крови, это престижно считается у политиков, а потом помылся в своей. Не престижно, но, что делать, бывает. В общем, получалось, что поэты долго не живут и карьеры, как таковой, не имеют.