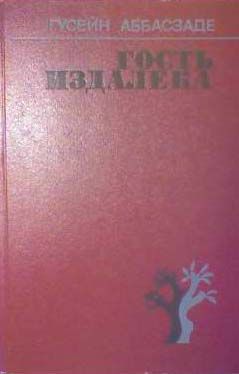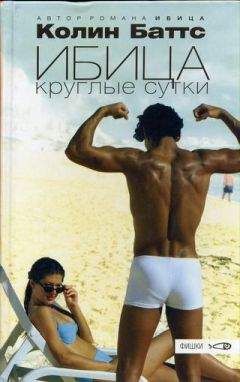Константин Хадживатов-Эфрос - Высота взаимопонимания, или Любят круглые сутки
Лена перебила ее:
– Я уже была, хватит. Говори, что надо, и мне на работу пора.
– Известна нам твоя работа, – мать начинала заводиться, – секретаришка!
– Эта моя работа тебя кормит, – у Лены появилось желание разораться. – А вот твои подозрения советую придержать – я ведь и ответить могу.
Мать молчала и только скоблила взглядом дорогую одежду дочери, ее красивое лицо и совершенно не подходящую к нему стрижку.
– Скоро вернусь, – заговорила мать, – кончится твоя лафа! Узнаю, что кто-то там ночует – отутюжу!
– Не лезь! – чуть не крикнула Лена. – Я тоже там живу.
– Я тебе сказала, – еще жестче проговорила мать, – я еще пока жива. Или ты мне уже могилку готовишь? Попомнишь меня, когда цветы принесешь!
Не зная, что ответить, Лена опустилась на больничную койку. Зубы ее наскакивали друг на друга, поскрипывали, толкались и все крепче сжимались. Скулы натягивали кожу на щеках, и под глазами выдувались в небольшие кружки. Моргала она часто, из-за чего и две капельки слез начали свое движение из уголков глаз и повисли у переносицы.
– Нечего сказать? – прервала ее раздумье мать. – Ты о чем сейчас думала?
– Это мое дело! – отрезала Лена.
– Смотри, смотри, не принеси там мне никого в подоле, – издевательски сказала мать. – Я нянчиться не буду.
– Чего тебе надо? – резко выдавила из себя Лена.
– Ничего. Жива, здорова – и слава Богу! – мать стала нарочито дружелюбна. – Могла бы и гостинцев принести, все-таки больница, кормят паршиво. Мне ведь еще лежать здесь.
– И лежи себе, – сказала Лена, – да подольше, не торопись.
– Жизнь себе устраиваешь? – мать засмеялась. – А кому ты нужна? Да и тебе-то никто не нужен. Что, я не знаю, как ты делаешь? С нужными людьми ты одна. С ненужными – другая. С матерью, например!
Лена нервно цепляла нижними зубами верхнюю губу. А мать продолжала:
– Вот у тебя мать в больнице, а тебе ее не жалко. Зато какого-нибудь блядуна облизываешь.
– Послушай, – Лена встала, – я не собираюсь грязь всякую выслушивать. Мне работать надо, я не отпросилась.
– А кто тебе кроме меня-то скажет это? – мать приподнялась. – Соседка по дому? Так она даже радуется, что у тебя все плохо.
– У меня все хорошо! – отрубила Лена.
– Ну-ну, – мать опять улеглась на подушку, – хорошо и ладно. Заглядывай почаще.
– Мама, – Лена подошла ближе, – зачем ты меня позвала?
– Какая тебе разница? – глухо ответила мать. – Позвала и позвала. Надо было.
Она перевела взгляд на дочку и застыла. Казалось, что мать остановилась специально, чтобы укорить своим бледным лицом и усталым взглядом дочку за черствость.
– Помру, узнаешь! – добивала Лену мать. – Уходи и можешь больше не приходить.
Самодурство и непоследовательность, бесконечная череда упреков и жестокости, исходивших от матери, огрубили душу Лены, и она уже не могла ни жалеть ее, ни сочувствовать. То, что мать оказалась в больнице, не прочувствовалось Леной. Тем более что та даже здесь умудрялась быть такой же, как и всегда, она даже здесь лезла в Ленину жизнь.
И, подумав об этом, Лена сказала:
– Ты не лезь больше в мою жизнь. Пожалей себя. Я и так из-за твоего желания обвинять всех во всем, очень многих людей потеряла, потому что тебя с раскрытым ртом слушала.
– Конечно, – взмолилась мать, – обвиняй, обвиняй! Нашла на кого свалить. Мать – дерьмо! Мать тебе жизнь сломала! А ведь я тебя вырастила такой вот красавицей. Хоть бы слово благодарности… Это ты распоряжаешься своей жизнью. Я тебя только предостерегаю от ошибок.
– Твои предостережения мне дорого стоили, мама, – Лена присела рядом с матерью, – Сколько мне, помнишь? Я уже семь лет могла быть замужем и ребенка бы уже растила. Вместо этого стучу по клавиатуре, стучу и буду стучать.
– Да, – просто сказала мать, – два аборта – это много.
– Откуда?.. – только и смогла шепнуть Лена.
– Читала я твою спрятанную медкарту из консультации, – умно подхватила мать, – вот от какого подонка я тебя уберегла! Хотел бы, не сделала бы.
Лена потерла глаза и усмехнулась, как будто тайна ее, вскрытая сейчас, ничего теперь уже не значила. Слезы не желали выходить из нее. Раз мать все давно знала, то чего беситься?
То напряжение, что сковало ее с утра, почему-то быстро проходило. Мать даже становилась сейчас не такой уж и злой, как раньше. Глаза их встретились и неожиданный порыв, откуда-то из детства, бросил Лену в объятья мамы. Они поцеловались.
– Думаешь, я железная? – мама гладила дочку, словно держа ее маленькую на руках. – Думаешь, мне не больно на тебя смотреть? Ведь я все понимаю.
Слезы Лены не выдержали и хлынули небольшим потоком.
– У меня операция завтра, – чуть слышно проговорила мама.
– Я буду держать кулаки, – ответила дочь.
Они попрощались…
Лена выбежала из больницы. Теплый воздух согнал тучи на небе, вот-вот должен был пойти дождь.
Душа Лены взволнованно дрожала, но нежные чувства охватили ее всю, и становилось сердце добрее.
Она с трудом перешла широкий проспект: движение здесь было адское, – и села в машину.
Машина не заводилась. Надо было выходить и голосовать, чтобы кто-нибудь зацепил тросом и подтолкнул с места.
Лена открыла дверцу и вышла.
Первая же машина, несшаяся по ближней полосе, сбила ее.
Летела Лена метров пять…
...29.08.01
Неудовлетворительно
Поздний февральский вечер. Замороженное окно блестит желтоватым светом кухонной лампочки. Павел Федорович Гомонов – профессор культурологии – сидит на кухне и перебирает гречневую крупу.
На душе у него тяжко: обиженный им любимый студент – Степа Коловаров – нагрубил ему и разорвал свой студенческий билет.
Павел Федорович весь вечер ждал Степиного телефонного звонка, но уже время позднее, и надежды на примирение нет.
«Сколько, однако ж, вложишь в эту шантрапу, а поди ж ты, никакого тебе эффекта! – думает профессор, вылавливая на столе черную крупинку. – Поди объясни ему, что надо свой город знать! А ведь не понимает, злится! Что ж остается-то? Только расстаться, а сколько вместе говорено-то, переговорено. Что ж это он такое себе навоображал, что и я его понимать перестал?»
Степа Коловаров, приезжий, был взят под опеку профессора из-за своей самобытности и всегдашнего желания записывать за Павлом Федоровичем его длинные и важные монологи. Не важно, что в этих монологах перескакивал профессор с пятого на десятое, важно то, что Степу он видел всегда с блокнотом и ручкой наготове.
«Купился я, что ли, на услужливость, но как же можно не знать таких простых вещей!» – сокрушается Павел Федорович и все еще с надеждой смотрит на телефон.
Живет он один давно – дочка редко навещает, а жены у профессора то появляются, то пропадают.
Одна отдушина – Степа, да вот обидел его Павел Федорович, поставил ему неудовлетворительно, а теперь мучается. Благо бы знал он, что Степа ответить не сможет, но ведь был в нем уверен…
Крупа уже засыпана в кипящую воду, а мысли профессора до слез, до отчаяния насквозь продирают. Как страшно разочарование!
Да и все можно было бы простить, но хамство, с которым Степа рвал билет и обзывал профессора крысой, грызет сердце.
Да если бы и позвонил Степа ему, что было бы? Гордость и обида захлестывают, и поди объявись сейчас студент, точно высказал бы Павел Федорович ему всю правду в глаза.
На лестничной площадке послышалось поскрипывание и кислые вздохи, легкий топот, а затем бряканье – как будто железной банки.
Профессор прислушался и подошел к входной двери, заглянул в глазок. На площадке света не было, но кто-то прикуривал, слышалось щелканье зажигалки и сплевывание.
Профессор не решался открывать дверь, хотя начинал понимать, кто за ней стоит. И, поняв это, решил ни за что не открывать, пока Степа сам не позвонит. Пошел на кухню, сел и раскрыл газету, пытаясь вчитаться в большую статью.
Каша шипела на плите; за дверью шуршало и позвякивало.
Ожидание еще больше разозлило профессора, и он стал говорить сам с собой:
– Да что он там возится, негодяй! Пришел – так заходи, и нечего топтаться под дверью! Ведь прощу же и так! Нет, торчит, идиот!
Пауза затягивалась. Уже и каша поспела, и положил себе профессор ее в тарелочку, молоком залил.
В дверь постучали. Профессор, стараясь не шаркать, прошел к двери и спросил:
– Кто там?
Никто не ответил. Павел Федорович вслушивался.
«Да что он дурачится, – думал он, – мстит мне, что ли?»
– Степа, это ты? – спросил громко профессор.
Ответа все еще не было. Тогда Павел Федорович скинул цепочку и повернул рычажок замка.
В дверях стоял Степа и бессмысленно смотрел сквозь разбитые очки: треснули оба стекла так, что казалось, что глаза выехали за середину стекол и выглядывали – сбоку один, и у носа другой. Степу качнуло.
Никто из разругавшихся не начинал объяснений.
Стояли они так с минуту, потом Степа развернулся и, покачиваясь, стал спускаться по лестнице.