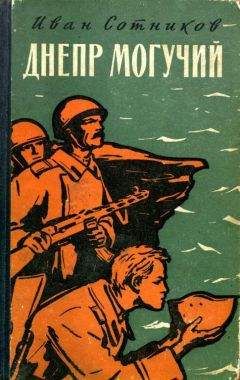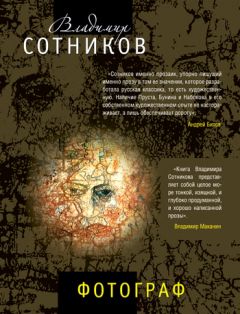Владимир Сотников - Улыбка Эммы
И словно обидевшись на слова, я рванулся к музыке, слушая ее вечерами в филармонии. Почему-то музыка догоняла меня потом, когда я выходил на Невский, переходил к Казанскому собору и долго еще сидел на скамейке в сквере, думая под эти гаснущие в моей памяти звуки. Наивные и неожиданные мысли приходили ко мне в голову. Неужели я так и останусь пустым колоколом, слушающим лишь свой внутренний гул? Почему люди так и не придумали какого-нибудь искусства для выражения своего бессилия? Что же дальше?
У меня было странное ощущение, что я уклоняюсь от внешнего мира и только его наблюдаю и подслушиваю, словно боясь принять в нем участие.
В филармонии рядом со мной сидели две старушки, тихо беседовали в антракте, и я услышал, что город они называют – Петербург, и это мне понравилось, и я почему-то решил, что и сам буду так его называть. Я поднял уроненную ими программку, ответил на какие-то вопросы. И выходили мы вместе, и раскланялись, прощаясь, и я подумал, что можно было бы пройтись вместе, разговориться, и мне этого, наверное, хотелось, как и им. Но я… уклонился.
Я узнал двух кларнетистов, присевших на соседнюю скамейку. Только что я слушал их музыку. «Знаешь, что я ему скажу, – горячился один. – Я скажу, что даже Петр Ильич не одобрил бы моего усиления. Нет этого в партитуре! Что он тычет в меня? Кто главнее, композитор или дирижер?» Потом разговор перешел на протекающий потолок квартиры, дачу, которую надо продать, на что-то еще. На что-то еще, потому что я уже ничего не различал, удивленный. Так просто все соединяется? Я побоялся, что захочу об этом сказать музыкантам. Близость ошибки согнала меня со скамейки, и мне показалось, я даже наклонил голову, чтобы пройти под протянутой высоко надо мной рукой бронзового Кутузова. Я быстро шел по Невскому и все пытался вспомнить забытую строчку из стихотворения, чтобы восстановить что-то выпавшее, казалось, из самой жизни.
На углу у канала Грибоедова толпились люди. Почему-то я подошел к ним, потом через подворотню вошел в освещенный двор. Там кормили бездомных. Две девушки у походной кухни уже заканчивали работу. Они спросили меня: «Накормить, студент?» Я растерялся и уже получил в руки картонную тарелку с кашей. Странность и одновременно естественность происходящего завораживала меня. Я стоял у стены, ел кашу и смотрел на кухню, девушек, бездомных, и даже казалось, что видел и самого себя – со стороны. Девушки все убрали, закрыли кухню на замок, подошли ко мне и спросили, не знаю ли я, где можно переночевать, чтобы не ехать домой на электричке. Я пригласил их к себе, потому что жил один в квартире брата. Странность жизни продолжалась. Девушки легли спать в одной комнате, я в другой. Лежал и думал – что еще может произойти в следующую минуту. Но потом уснул, а утром девушки уже ушли. В кухне на столе была записка с одним словом «спасибо».
Неужели я становлюсь отшельником, думал я перед зеркалом, вспоминая старушек, кларнетистов, девушек, – они стали подробностями жизни, от которых я уклонился. Они прошли почти бесследно, как музыка. Может, так и должно быть? Если бы я отозвался на их появление – я с улыбкой подумал, что все они являлись мне почему-то парами, – все изменилось бы. Развеялась бы дымка Петербурга. Слушая музыку, я не хотел подробностей, живя в этом городе, не хотел событий.
Прошло несколько одинаковых дней. Вечерами я возвращался в квартиру. Рассветы отгоняли меня от окна.
Не надо бояться быть смешным, если хочешь сказать правду. Я хотел к Пушкину.
Он был облаком, может, дымкой. Пространством и простором, ветром слов. Моей детской игрой в самолет. В детстве я забирался на огромный дуб, стоящий в поле за деревней, прижимался к шершавому стволу и летел вместе с Пушкиным. Бабушка мне рассказывала его сказки.
Я шел по набережной Мойки. Дом Пушкина оказался передо мной. Странное предчувствие назначенной встречи было во мне. Не время, а только место указывало на нее. И вдруг я подумал об отце. Когда-то в детстве я заблудился в лесу, и он нашел меня на далекой маленькой поляне. Я вошел в пушкинский дворик, похожий на эту поляну. Время шло сквозь меня, как обещание будущих слов. Они перестали бояться молчания.
– Вы на экскурсию? – услышал я. – Почему-то я знала, что мы еще встретимся.
Передо мной стояла девушка, которая ночевала у меня со своей подругой.
– Пойдемте я покажу вам дом, – сказала она.
Казалось, я подчинился времени, вдруг захватившему меня с собой.
Хранятся ли чувства? Люди изменяют их. И только там, где Пушкин умер, в его кабинете, я понял, что прощальное чувство осталось неизменным.
Нева катила перед нами свои волны. Я не боялся пошлости. Боялся, что я один, и даже посмотрел на Машу, словно убеждаясь в ее присутствии.
– Я появляюсь только сейчас, – сказал я. – Когда-то впервые почувствовал, что существую, но это была утрата. И потом всю жизнь искал себя, как другого человека.
– Ты говоришь только о себе, – улыбнулась Маша. – Если бы я не сказала свое имя, ты бы и не спросил.
Ночью я проснулся от страха. Будущее прилетело ко мне. Ни картинки, ни слов – только страх. Время исчезло, доказывая, что я оказался в бесконечном едином мире.
Почему у меня нет слов? Эмма саркастически улыбнулась?
Маша обняла меня во сне и сразу встрепенулась:
– Ты весь дрожишь. Что случилось?
– Я испугался. Я никогда не напишу о любви к тебе, потому что внутри нее. Знаешь, почему я так подумал? Вспомнил свою странную детскую мысль о том, что не понимаю самого главного, потому что нахожусь внутри него. В самом центре.
– Боже мой, – прошептала Маша. – Как ты можешь жить где-то далеко, среди каких-то людей? Тебе надо быть рядом со мной.
Петербург не отпускал меня. Мы стояли с Машей на вокзале, а я не хотел прощаться. И понял, что никогда с ней не расстанусь. Мы уже стали одним существом.
– Ты написана во всех книгах, которые я читал, – сказал я Маше. – Как ты совпала с моим ожиданием.
– Но ты уезжаешь.
– Я вернусь.
Я говорил, как первобытный человек, только правду.
Прежняя жизнь встретила меня в родительском доме новым чувством. Я впервые вспоминал ее. По утрам выходил на луг, переходил по мостику речку, поднимался на опушку леса, садился на траву и смотрел на свой дом. Закрывал глаза, но казалось, чей-то взгляд хранит во мне это пространство. Он был обширен и огромен, этот взгляд. И я чувствовал необходимость подробностей, которыми должен заполнить его. Видел ли он меня? Не знаю. Но ведь и я не видел рыбок в речке. Мы смотрели одинаково, как ветер, в одну сторону, и я был частью его.
Однажды отец пришел ко мне и сел рядом. Мы помолчали, потом он сказал:
– Ты как прощаться сюда ходишь.
– Нет, что ты. Просто смотрю, думаю.
– Вот мы с матерью и видим – что-то задумал, а нам не говоришь.
– Я, наверное, в Петербург уеду. В Ленинград.
– А институт?
– Переведусь. А если не получится, поступлю заново.
Отец помолчал, вздохнул.
– Что ж, делай как знаешь. Только матери объясни. Волнуется.
– Конечно.
– Ну ладно, пойду. Приготовлю ее к новостям.
Отец ушел. Я смотрел ему вслед и вспоминал: ругали меня родители хоть когда в жизни? Только отец однажды, когда меня ударила молния на мотоцикле в грозу. Больше я ничего подобного не вспомнил.
Странная учительская семья.
Но если б я мог объяснить, чего хотел! Понимает ли человек свои желания? Проще бы мне было спросить у матери, чем объяснить ей это. Мне казалось, в нашем разговоре с родителями не хватало еще кого-то. Может, брата, может, Маши. Семейный совет всегда неполон, подумал я тогда.
Я не помню слов, которые говорил. Вдруг в дальней комнате распахнулось окно, и сквозняк пронесся, стукнув дверью. Как будто кто-то прошел мимо нас и вышел из дома.
Вечером я последний раз, как маленький, сидел на теплой лавочке у дома, вцепившись руками в шершавую доску. Потом всю жизнь буду прятать в себе это воспоминание, боясь его сентиментальности, хотя оно назойливо цеплялось ко мне на всех холодных скамейках в парках и скверах. Но тогда я даже старался запомнить это ощущение теплой старой доски подо мной, дома за спиной и родителей в нем – и держался за лавочку, будто соскальзывал с нее.
Мимо меня в темноте прошел сосед, свидетель моего детства. Густеющий туман на лугу доказывал связующую длительность времени. Мне казалось, вместе с туманом время переплывало на другой, невидимый берег речки.
Есть ли у меня сейчас право так говорить об этом – отсюда, из моей нынешней жизни? Было ли так? Мне кажется, что сейчас я заполняю единственное пустое место в той картине, помещая туда себя вспоминающего. И я там был. Мед-пиво пил.
Меня перевели так легко, что я как будто провалился в пустоту вместо ожидаемого сопротивления. И от этой легкости появилось у меня ощущение сделанной ошибки. А что же Маша? Маша почти сразу уехала в Германию. На стажировку, на три месяца. Она не хотела, но я уговорил ее. Она училась в аспирантуре.