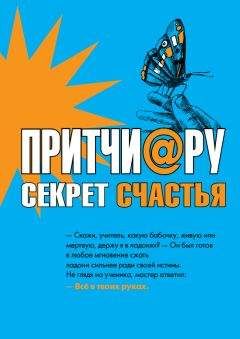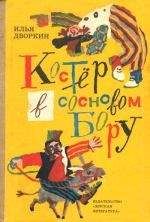Илья Луданов - Секрет Небосвода. Рассказы
Вчера на кладбище, после недомолвок и открытой полугодовалой неприязни, серый деревянный крест заменили на гранитный камень. При живых отцовых двух сестрах и дедовых братьев, в день поминок никто не приехал, свою долю расходов не вернул; значит и годовые поминки им теперь проводить втроем.
Вечером, за водкой, отец смотрел в сторону, и молчал так выразительно, будто говорил Федору, что настал конец всей семейной дружбе, что он бы поверить не смел, как легко порвутся, связанные крепкими канатами, чувства единой семьи, разойдутся в едином корне сплетенные судьбы.
Отец копал с тем натянутым молчанием, когда одни сжатые скулы и спрятанные под бровями глаза выдают злое непонимание. От чего родные так чужды? И сколько глупости в этом безумии, в то время, как нет войны, голода, нет страха предательства и ничья воля, никакая ложь не мешает жить в добре?
Федор же думал о встрече с Машей, и так хотелось радоваться новому дню, что бросил бы сейчас лопату, побежал, просто побежал со всего духа! От того стало горько и хотелось уехать, но он думал, что оставляет родителей с этим непониманием и бежит от их общей грусти. Но бежать хотелось, открыто, и он готов был честно сказать, что не желает остаться среди этого мрака, и хочет туда, где хорошо. Было жаль родительскую стойкость и свою слабость, и хотелось забыть все распри и только смотреть на небо, потому что небо всегда красиво.
– Мне пора, – сказал Федор через час копки.
– Тебе там мать собрала с собой, – отец убрал лопату и посмотрел на вскопанный участок. – Картошки еще возьми. – Федор увидел, что за огород отец сегодня больше не возьмется – до смерти наскучило делать все одному.
Теперь он и сам спешил уехать. Родители вдруг стали теми, с кем ему нельзя, будто вредно говорить, кого нужно отстранять или жалеть, но только со стороны. Было трудно представить, кем нужно быть, чтобы так думать, но так и было. Двор, молодой сад, дом стояли теперь одинокими и брошенными, будто в них совсем нельзя вернуть смелость жизни, дышать глубоко, на радость служения хозяину.
Мать за обедом не знала что сказать, только молча смотрела на него. Федор злился на нее и на себя, весь сжался и пытался не смотреть на мать.
Неужели причина – в разрыве с обществом родней, от чего родители чувствовали себя покинутыми? Тяжесть в душу накладывало, что отвергнуты старики не за поддельничество общей лжи и обману, но за противодействие ему, за честность, за выбор остаться в скромных должностях, с бедным кошельком и свободной совестью. Теперь за свою благородность они уже не страдали – твердели, иссыхая, как глина на ветру.
Федор боялся испортить дело поспешным советом и только обидеть пустыми утешениями. С матерью прощался скупо, не вспомнил ее предложения приехать к ним с Машей через две недели. В последний момент приобнялись. Федор с невиданной уверенностью посмотрел на мать, как бы подтверждая свою взрослость, развернулся и уехал.
На пустынной площади автовокзала с дряхлыми автобусами и новенькой желтой коробченкой с пузатым, огромного роста, водителем, ветер гонял обрывки газет, пакеты и пластиковый мусор. С просьбой денег бродил старый пропойца с потерянным лицом и заплывшими в синяках глазами. Одни отворачивались, другие махали на него руками, третьи, как Федор, смотрели на него прямо и твердо, с некоторой злобой, пока он сам не отходил, равнодушный к отказам и вашей злости. Ему не было дела, подадут или нет, удастся ли купить водки, но в силу гибельной привычки он весь день искал выпивки и даже если не подавали или он оказывался бит, к вечеру неизменно бывал пьян.
Перед самым отправлением автобуса перед Федором развернулась драка. Бились голуби. Не городские сизари, горлицы – с утонченными фигурками, совершенно белые, в ком живописцы выводят образ святого духа в библейских сценах. И эти два нежных голубя яростно дрались, готовые насмерть перебить один другого. Совсем как петухи, стоя один против другого, кидались вперед и вверх, схватываясь в воздухе клювами, ударяя коготками и крыльями. Когда схватка случилась два или три раза, завороженный сначала, Федор чего-то испугался и быстро отвернулся.
Минут пятнадцать петляли городскими улицами, уклоняясь от рытвин и мигая знакомым водителям, пока резво не выскочили на трассу. Все вокруг сразу стало незнакомым. Федор оглядел ближних соседей, угадал всех, не нашел пьяных и уставился в окно – думать о Маше: как она без него эти два дня, и как они встретятся.
Автобус шел на пределе. Федор только успевал отмечать редкие, засеревшие в руках осени деревни, белые, на пасмурном небе, колокольни, сшитые скоростью в единую ленту голые тополиные посадки, пятнистый, слившийся в массу темных красок, придорожный бурьян. За окном, набирая силу позднего октябрьского ветра пошел мелкий, не сразу заметный дождик. Спустился холод, обещавший первые заморозки, от которых люди, еще помнящие лето, промерзали до костей и первый раз думалось, что вот в бесчисленный раз придет и окутает все зима, и погреться на солнце удастся лишь через полгода. Федору было тепло и уютно в автобусе, тело обмякло в кресле, он лениво шевелил сонными глазами.
Изоляция окон и дверей отделяла летевшую мимо осеннюю природу, унылый пейзаж бедной жизни вокруг. Мир в нескольких метрах за окном, стал невероятно далеким, сам Федор казался совсем не причастным ко всему, что там, под дождем, где промозглая осень и ветер. В томной полудреме Федор представил, как дети будущего, отстраненные наукой от природы, движутся по своим точно рассчитанным траекториям, реализуя аналитически доказанные, максимально рациональные планы в календарном безвременье комфорта. Там не будет мокрого воздуха осени, морозной зимней свежести, волн летнего тепла; люди будут дышать по графику, умеренно жить, расчетливо умирать. Он с равнодушием смотрел на это будущее. Было лишь странно представить плоскость: по одной стороне его – он сегодня утром, бодрый, горящий работой, копал землю, рыл упругий и сырой чернозем, шелушил ладонью стволы яблонь, будто ребенок, закидывал голову к небу; и – здесь, в кресле, лениво наблюдающий за такими чуждыми полями, деревнями и речкой за стеклом.
В небольшом областном городке следовало занести передачу двоюродному брату отца, Алексею Николаевичу – мама очень просила. Их семью Федя недолюбливал. Семейство Алексея Николаевича в любом деле вело себя как пьяный генерал на собственных именинах, не замечая свое пренебрежение к окружению и напоказ испытывая сладкое удовольствие, когда легко удавалось заправлять остальными – напором и редким видом окультуренной наглости в глаза. Федор только вздохнул, когда с порога супруга Алексея Николаевича, вдвое его моложе, с огромными глазами и плоским, будто натянутым, лицом стала расписывать недавно сделанный ремонт, хвалиться, как старший сын, ее пасынок, обзавелся машиной – таких моделей в городе всего шесть! – и сколько это стоило им хлопот, и как они терпели этих несносных ремонтников и как опасно оставлять машину на улице ночью.
– Вон, через двор, позавчера стекло-то выбили и этот… как его… регистратор видео… вырвали. Одни проводки торчат. А наши-то еще и целую музыкальную систему установили, колонка с табуретку, когда играет – бухает так, будто изнутри кто-то ломится… – говорила она, размешивая чай и подавая печенье.
Сам Алексей Николаевич сидел напротив, большой, плотный, с легкой, снисходительной улыбкой на крупном лице. Его довольный вид подчеркивал, что все сложилось, не зря суетился, бегал, все эти бессчетные ларьки обслуживал. Федя против ларьков ничего не имел. Он просто сидел за чаем и думал. Эта образцовая семья успешного проживания сама не знала своей пустоты. И Алексей Николаевич, наверно, точно с такой же легкой улыбкой как сейчас, десять лет назад сидел перед его отцом, смущенным смертью деда, говорил очень уверенно и твердо, что заберет дедов дом и заведет на вырученные деньги торговлю. Так он открыл первый пивной ларек. Сейчас у него было три ларька с выпивкой и табаком, и три летних кафе по городу, с танцами, в которых Алексей Николаевич отвечал за поставки товара.
– Как твои-то? – спрашивал Алексей Николаевич с серьезным видом.
От чего-то хотелось быстро встать и уйти.
– В порядке. Огород вскопали. Картошка в этом году удалась, – отвечал Федор и думал, что с таким превосходством в голосе Алексей Николаевич всегда теперь будет говорить с ним, и тому же, наверное, учит своих ребят.
– Огород – какой ужас! – охнула жена Алексея Николаевича. – Не могу представить! Только подумай, Алеша – мы, все, с ведрами, в сапогах, по грязи… – ее передернуло.
Алексей Николаевич не удержался, прыснул, замахал на нее руками. Жена ответила грудным смехом, провела рукой по его, похожей на футбольный мяч, голове. Федор посмотрел на нее, будто увидел диковинное растение, но устыдился такого взгляда, нагнулся к чаю и сказал, что ему пора.