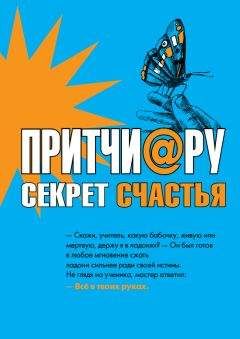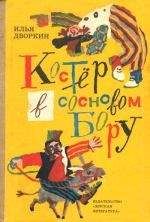Илья Луданов - Секрет Небосвода. Рассказы
Книгами на Арбате под открытым небом торговали по-всякому. Упитанные мужики лет пятидесяти в темных куртках с капюшоном и толстых свитерах днями напролет грузно бродили вокруг широких развалов с добротными томами старых изданий, безудержно задирая цену так, что та же книга свежего тиража в магазине за углом, в модном, стильном переплете стоила вдвое, и втрое дешевле. Возле «стены Цоя» широкий развал обесцененных книг, где всегда можно было встретить худых, с отстраненным видом студентов, скучающих пенсионеров в больших очках и мятых рубашках, иностранных туристов или не уехавших в выходной на дачи горожан. Мимо пройти нельзя. Внимательно осматривал плотно уложенные издания: обрывки сборников сочинений, позабытые мемуары и быстро разбираемые, но неизменно пополняющие свои ряды корешки классиков. И не было раза, чтобы не находил себе что-то стоящее. Книги стоили дешевле, чем где-либо, тридцать пять – пятьдесят рублей.
Рядом в крепких картонных коробках лежали кипы списанных книжек, и на каждой коробке сверху цветным карандашом или маркером размашисто выведено «10». Здесь продавались сборники непопулярных статей устаревших политиков, произведения забытых авторов, работы погасших в памяти критиков, и часто, тщательно перерыв кипы, приходилось отходить в сторону с пустыми руками.
Хуже всего десятирублевкам приходилось зимой в метели. Коробки стояли по краям прилавка, вылезали из-под навеса, и случалось, перед тем как перебрать книги, приходилось выгребать полную ладонь снега и отряхивать каждый том, чтобы снег не растаял и не портил бумаги. Коробки во вьюжные дни не убирались, накрывались целлофаном небрежно, и по осени или ранней весной, в мелкий, нудный дождик, и я с мукой наблюдал, как пятнами капель темнеют бумажные обрезы… Так, наверное, погибла не одна позабытая книжица. Но это были неисчерпаемые источники для любителей по-прежнему считывать с бумажных страниц красоту составленных в единый ряд слов. И всякий раз, оказавшись недалеко, я приходил покопаться в развалах, будто дышащих на тебя воздухом старой Москвы: вдруг в опасности порчи находится что-то интересное?
Апрель выдался холодный, и в парках еще лежал снег. У лотка потоки разукрашенных весной подростков поредели. Я напустил на себя небрежный вид и стал рыться в коробках: пожелтевшие доклады Вождя, учебники по физике семидесятых годов, куски сборников соцреалистов… Вдруг изморозь по коже – в руках сами раскрылись «Донские рассказы» Шолохова – давно искал их отдельным изданием. Книга тоненькая, с водяным разводом на выгоревшей обложке и аккуратной дарственной надписью на первом листе: «от бабушки любимому внуку». Но – твердая обложка, крепко сшитый переплет, будто глянцевые, крепкие страницы, печатанные в середине прошлого века. И рядом не хуже – красивая пара из четырехтомного собрания Серафимовича. Я и писателя такого толком не знаю, так, слышал где-то, но обе книги хорошей сохранности, страниц в триста каждая, оформление типового издания конца перестройки. Открыл – написано крепко, чувствую классическую школу – берем. И Стендаль тут, «Красное и черное», но есть уже у меня. Толстое, красивое издание Данилевского нежно-зеленого цвета. Ему-то точно делать тут нечего, а вот, лежит, и не берут – забыли?
Пакета нет, книжки – подмышку, расплатился одной мелочью, будто с паперти, и вот уже чуть ли не бегу к метро, согнувшись, с ощущением восторга и азартного сопротивления чему-то неназванному, между блестящих в вечернем освещении дорогих иномарок, жалкий на вид, но от чего-то довольный, будто наперед знаю: чем-то мы их лучше…
Арбат обезлюдел. Тучи нагоняет, с реки хлестнул по лицу промозглый заряженный пыльной моросью ветер, мурашки от холода, но так весело на душе, так хорошо – быстро шагать, прижав рукой к ветровке стопку книжек, и думать, как будешь через полчаса сидеть в твердом кресле, и осторожно, боясь повредить, по одной перебирать страницы, в теплом свете лампы вчитываться в мелкий шрифт аннотаций, пробегать оглавления; как откроешь первую страницу, тронешь взглядом начальное слово и не понимаешь, как можно за книгу назначить цену в половину буханки черного хлеба.
2
Раскиданные по нечищеным бордюрам автомобили стояли вразвалочку от перекрестка, хотя до входа на рынок идти целый квартал. Под ногами глухо хрустела снежная мерзлая крупа. За ней поблескивали натоптанные зеркальца льда. Навстречу двурядный, черными и серыми пятнами вперемешку, поток – торговые ряды скоро закрывались и девятый вал покупателей, бурно отшумев, схлынул. Рынок пустел.
Самодельные прилавки, наспех сколоченные из старых досок или собранные из ящиков, начинались метров за тридцать до ворот. Здесь не надо было ничего платить за место, никто не проверял и не прогонял. Обо всем давно было договорено.
Внутри лотки по обеим сторонам первого ряда были завалены той ненужностью, что я никогда не покупал, но что неплохо продавалось по сотне-другой за вещицу. Русские и украинцы, кавказцы и азиаты вперемешку торговали хлебом и нательным бельем, вареньем и спортивными костюмами, воскового вида овощами и сырым, терпко пахнущим мясом. Я проходил мимо, со странной, будто сочувственной улыбкой, ни на кого не смотрел, на призывы не откликался, шел в глубину рядов, где расположилась группа хозтоваров.
Мелочевкой на рынке торговали смотревшие в лицо старости мужики. По выходным они заходили за прилавки не столько торговать, сколько посудачить о политике и ценах, пожалеть свою молодость. Они мне нравились. Было в их пропитых лицах что-то душевное, умиляло, и мужики дни напролет здесь не ради прибыли. Они сами вряд ли могли бы объяснить, что здесь делают.
В конце ряда стоял парень и торговал книгами. Лоток его меньше остальных, и книжек от силы десятка два. Сразу замечалась болезненная полнота парня, маленькие косоватые глаза на приплюснутом лице, так и не обрекшем индивидуальный рисунок характера. Это всегда выдавало тех несчастных, кого природа по болезни или наследству от рождения обделила долей ума. Он стоял или сидел на складном алюминиевом стульчике за двумя рядами своих растрепанных книжек, в потертой курточке, почти не двигаясь, часами напролет. Слов почти не выговаривал, я не знал, как его зовут, умел ли он читать и писать. Считать умел точно. Во всяком случае, до десяти. Столько стоила любая из его книг, которые он непонятно откуда брал.
По воскресеньям появляясь на рынке, я подходил к нему, как подходили из жалости многие. Стараясь не обидеть, искусственным вниманием, наскоро осматривал книги. Когда выбирать было не из чего, хотелось еще минуту внимания уделить ему. Я оставался стоять, рассматривал обложки, оценивал крепость переплетов и вчитывался в пожелтевшие предисловия.
За три месяца знакомства с ним моя библиотека пополнилась десятком добротных томов классики, несколькими книжками, о которых я ничего не слышал.
В этот раз я ничего не купил и хотел уходить. Его сосед, торгующий мелкой сантехникой старик, знаками вдруг подозвал к себе. Делая вид, что показывает запчасти к смесителю, он обдал меня густым табачным духом и скороговоркой, половину слов глотая, хрипло зашептал:
– Ты там это… не бери у него ничего. Витька, сволочь, тот, корюзлый, что справа стоит, самогонкой его с утра подпаивает. Парень продал-то книжки три, так Витька наливает, паскуда, из-под прилавка и у него деньги берет. Ты книжку купишь, а он ему еще нальет…
Я отшатнулся от старика и, вспыхнув лицом, повернулся в сторону Витьки. Форменный алкоголик, лет под пятьдесят, с озлобленным лицом пропащего человека, он сбывал на базаре бытовое хламье. Жил пьянством и, верно, промышлял самогоном. Стрелял исподтишка глазами, прикладывался к термосу и как комья грязи кидал по сторонам обрывки ругани.
Мне страшно захотелось схватить его за волосы и что есть силы ткнуть лицом в железный прилавок… или взять у старика блестящий разводной ключ, подойти и, ни слова не говоря, со всего маху ударить по голове… Чтоб кость черепа хрустела. Чтоб он кровью изошел. И ничего не говорить, только бы ничего не говорить…
Я подошел к прилавку и уперся в Витька свинцовым взглядом. Молчал. Стоял так минуты две, пока мужики не закосились в мою сторону. Витька повернулся было, но ничего не сказал и убрал воняющий сивухой термос под прилавок. Я кивнул продолжавшему не мигая смотреть прямо перед собой и так ничего не заметившему парню-книготорговцу, чуть улыбнулся, грустно взглянул последний раз на книжки, порадовался, что ничего стоящего у него в лотке сегодня нет, с трудом отвернулся и быстро пошел прочь.
3
После эскалатора и длинного перехода с фонарями-иллюминаторами, похожего на трюм морского лайнера, наверх вели несколько пролетов каменной лестницы с высокими ступенями, подниматься по которым было, как идти по огромному подъезду с ярко-желтыми стенами. Широкие перила облепили странного вида замершие в разных позах группы молодежи, будто заменявшие декоративные статуи. Приятно было вырваться из спертого толпой воздуха подземки к бульварной свежести и, пройдя через трамвайные пути, всматриваться в окаменевшего Грибоедова, скользить взглядом по лицам вечерних отдыхающих, обрадованных последним теплом дыхания августа.