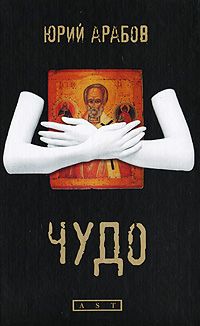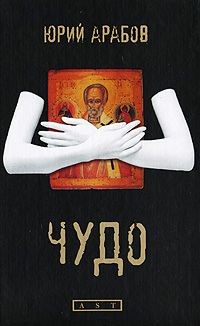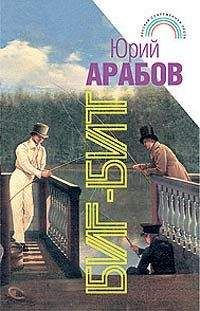Юрий Арабов - Столкновение с бабочкой
Он возвращался в столицу, как двоечник. Как блудный сын. Как картежник, спустивший последние штаны в холодной Финляндии. А когда возвратился, то пожалел о своем возврате.
Все… Решительно все были в курсе его секретных переговоров в Гельсингфорсе! Английский посол Бьюкенен требовал немедленных объяснений. Французские газеты трубили об измене и о выходе из войны главнейшего участника. А что Антанте этот главнейший участник? Они, даже имея два фронта и ослабленного этой двойственностью кайзера, не сумели развить весеннее наступление близ Солоников… Так что им Россия?
Во дворце Николая встретили только дети, а императрица вообще не вышла, сославшись на мигрень. Ее гнев парализовывал государя с первых дней женитьбы. Нервная организация Николая Александровича была уязвимой: он мог функционировать как гражданин и человеческая особь, лишь находясь в состоянии мира со своими ближними. Любая война была для него могилой. Любая драка – смертельной. Это касалось целых стран, сословий внутри страны и, уже на уровне семьи, – ее членов. Он и не мог, в строгом смысле, быть государем. Он даже завидовал Вильгельму и английскому королю Джорджи за их решительность в выгрызании собственной выгоды. Их мощные челюсти могли перемолоть целые страны, если последние были против их интересов. Но Провидение издевалось: оно поставило Николая во главе гигантской империи, которая по определению не могла быть доброй ни снаружи, ни внутри себя. Оставалось лишь умереть или достойно отойти от дел. Самоубийство было недопустимо, этому мешала христианская вера. Но искать собственной насильственной смерти… это был выход! Смерти от рук революционеров, от стихии и несчастного случая. Тем более что все три ипостаси были похожи друг на друга. Революция и есть несчастный случай. А Людовик, попавший под гильотину… Что ж, ему крупно повезло в каком-то смысле!..
Когда слуга выносил из его кабинета гранату, через разбитое окно с весенним ветром ворвалось еще одно решение – тайно постричься в монахи и уйти в скит. В его роду существовала легенда о добровольном отходе от дел государя Александра Первого и скитании его по Сибири в обличье старца Федора Кузьмича. Это была величайшая фамильная тайна. Толстой не выдержал и разболтал ее в «Посмертных записках старца Федора Кузьмича». Николай Первый сжег все дневники императора, чтобы страшная тайна навсегда осталась глупой сказкой. А ведь Александр Благословенный лежал тут же, в Петропавловской крепости. Почему бы не вскрыть могилу и не эксгумировать тело? Что окажется в гробу – пустота или тленные останки? Интуиция подсказывала Николаю Александровичу: в гробу ничего нет, вскрой его и удостоверься!.. Но он боялся правды. Боялся, как и все. Не нужно будить спящую собаку, не нужно никакой правды!..
В скит!.. В самом деле, уйти от мира. Но как же дети? Я не могу без них. И без Алекс не могу, она – моя третья нога. Потом, я ведь сам возглавляю Церковь. Я и царь, и патриарх. Странное дело… Неудобное положение. Слишком ответственное и в глубине себя – бессмысленное…
– Предатель!.. Предатель! – услышал он из спальни голос императрицы.
Он зажал уши и совершенно явственно понял: она его добьет. Александра Федоровна была упряма, потому что считала себя умнее других. Правда, тайный постриг и уход в пустынь решали этот вопрос – она до него не достучится. Но тогда зачем он затеял переговоры с кайзером, на какой ляд? Кто их довершит в случае его ухода?
Временное правительство вместе с князем Львовым требовало срочной встречи. О чем будут говорить? Проблем больше, чем капель в дожде. Не пойду. Опять затеют разговор о моем отречении. И еще – о скорой победе на расстоянии вытянутой руки… Патриоты! Они что, не знают, что армия близка к голоду? Что запасы продовольствия кончились через полгода после начала войны? И после этого снабжение идет с перебоями. Одна селедка на день рядовому – и то хорошо… Нет! Я делаю все правильно. Но мне нужен союзник. Господи, подай голос! Вразуми, что я должен свершить!.. Дай знак!..
Он услышал, как веником собирают осколки разбитого стекла. Звук был неприятный, будто железкой водят по струнам рояля.
Так!.. А кто собирал осколки? Этот безумный старик, которого давно нужно было рассчитать. Полуглухой, выговаривающий вслух то «Аспарагус», то «Гельсингфорс»… Только такой юродивый, как я, может прислушиваться к подобным бредням. «Гельсингфорс» мы уже приспособили – к славе или своему позору. А что он скажет нынче?
– День сегодня неплох… – обратился к нему государь, имея в виду солнце за окном.
Слуга выпрямился. Все его морщинистое, как изюм, лицо затвердело, обратившись в слух, и стало похожим на лунную поверхность.
– Говорю, что день неплох!.. – прокричал Николай и подумал: Кругом – одни глухие. И дядя Вилли, и этот… А больше всех – я!..
– Был не плох, а теперь – горох , – сказал слуга.
– Что?!
– Горох, ваше величество!..
Он поклонился. Осколки стекла выпали из ковша на пол, и он снова начал сгребать их веником.
Государь вышел на двор в глубокой задумчивости.
День был чудесный, природа смеялась. Ледяная кожа сугробов набрякла водой, как промокашка. В рукотворном озере перед дворцом были заметны первые полыньи.
Государь снял фуражку. Солнце погладило его, как рука матери. Он подставил под него лицо, греясь и радуясь жизни. Любое время года не слишком интересно. Но сломы его волнуют, как в юности. Весна!.. Горох! При чем здесь горох?!
Он оглянулся. Из окна второго этажа на него смотрели Ольга и Анастасия. Государь помахал им рукой. Девочки еще не совсем оправились после болезни, и выходить на улицу им было рано.
Ему захотелось сделать что-то приятное. Чтобы дети радовались вместе с ним ласковому, как бархат, дню.
Сбросив шинель, он начал лепить из снега бабу. Было не очень удобно, он даже поцарапал правую руку, но если пробить наст, то снег под ним вполне годится для лепки. Набухший влагой, он легко воплощает замыслы скульптора, во всяком случае, простые: два шара – под туловище, а один – под голову. Но из чего делать глаза и нос? Вот когда бы пригодился горох!..
Руки у государя затряслись. Он застыл от молнии внутри себя… горох ! В самом деле, горох ! Какое потрясающее озарение!..
Возвратившись во дворец, он сказал Алексею:
– Как ты смотришь на то, чтобы нам всем переселиться на Гороховую ?..
– А что это такое, папа?
– Обычная улица в Петрограде.
– Мы будем жить, как простые люди?! – глаза у мальчишки загорелись.
– Конечно. Мы ведь и есть простые люди. Во всяком случае, в военное время.
– …И будем в стесненных обстоятельствах?
– В крайне стесненных, – пообещал государь. – На Гороховой , кажется, всего четыре комнаты. В тесноте, да не в обиде.
– И ходить в уборную на улице?! – восторженно вскричал цесаревич.
Мальчишке, наверное, почудилась романтика Фенимора Купера: пампасы, лианы и полное отсутствие личной гигиены.
– Ну нет, до этого не дойдет. Квартира со всеми удобствами и ванной. Была переделана лет пять назад под стандарты европейского быта.
– Но я хочу ходить на улицу! – капризно настаивал на своем Алеша.
– Хотите – будете, – пообещал отец. – Но не на Гороховой. Когда пойдете в армию, там и нахо2дитесь. В походных условиях справляют нужду в большие ямы.
– Вы знаете, что я не пойду в армию. Что я – несчастный инвалид, – грустно сказал мальчик.
– Чепуха!.. – отрезал государь и добавил, подумав: – Может быть… Если Бог даст… вы будете первым инвалидом, кто имеет офицерский чин.
Этот ответ успокоил цесаревича. Поцеловав отца в щеку, он помчался по коридору с криком: «Мы переезжаем! Папа увозит нас на Гороховую!..»
– У вас температура, – сказала жена, появляясь в детской. – Немедленно меряйте!..
Она протянула ему градусник.
– У меня нет температуры, у меня есть видение, – объяснил Николай Александрович.
– Это от высокой температуры!
– Скорее, от внутреннего озарения.
– Какого рода?
– Провиденциального. Гороховая, 64! Мы должны там жить!..
Александра Федоровна захлопала глазами и вдруг громко всхлипнула. Силы оставили ее. Она опустилась на зеленый ковер и, расстегнув блузку, поставила градусник самой себе.
– Ники! – выговорила она, побледнев. – Это же дом старца !..
– Именно. Нашего Дорогого Друга, который молится за нас на небесах!
– Но квартира может быть занята!..
– Я только что узнал. Квартира свободна, и она защитит нашу семью своими мистическими стенами.
Государь не сказал главного: она была свободна потому, что считалась нечистым местом. И в этих дорогих просторных апартаментах, где почтенный старец содержал своих дев и решал государственные вопросы, никто не решался селиться уже полгода.
В день убийства эрцгерцога Фердинанда Дорогого Друга полоснула ножом монахиня Хиония Гусева, худосочная дева, называвшая себя монахиней в миру. Рана оказалась глубокой. Хиония металась с ножом наперевес, уворачиваясь от рук, которые пытались ее поймать, и кричала сорванным голосом: «Смерть антихристу!..» Раненый старец, боровшийся за свою жизнь, не смог помешать началу войны. Он ее страшился, считая концом всему.