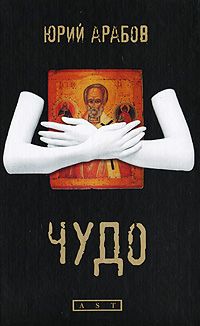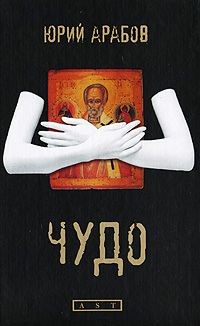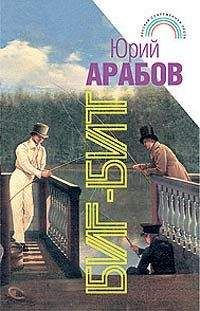Юрий Арабов - Столкновение с бабочкой
Этот ответ успокоил цесаревича. Поцеловав отца в щеку, он помчался по коридору с криком: «Мы переезжаем! Папа увозит нас на Гороховую!..»
– У вас температура, – сказала жена, появляясь в детской. – Немедленно меряйте!..
Она протянула ему градусник.
– У меня нет температуры, у меня есть видение, – объяснил Николай Александрович.
– Это от высокой температуры!
– Скорее, от внутреннего озарения.
– Какого рода?
– Провиденциального. Гороховая, 64! Мы должны там жить!..
Александра Федоровна захлопала глазами и вдруг громко всхлипнула. Силы оставили ее. Она опустилась на зеленый ковер и, расстегнув блузку, поставила градусник самой себе.
– Ники! – выговорила она, побледнев. – Это же дом старца !..
– Именно. Нашего Дорогого Друга, который молится за нас на небесах!
– Но квартира может быть занята!..
– Я только что узнал. Квартира свободна, и она защитит нашу семью своими мистическими стенами.
Государь не сказал главного: она была свободна потому, что считалась нечистым местом. И в этих дорогих просторных апартаментах, где почтенный старец содержал своих дев и решал государственные вопросы, никто не решался селиться уже полгода.
В день убийства эрцгерцога Фердинанда Дорогого Друга полоснула ножом монахиня Хиония Гусева, худосочная дева, называвшая себя монахиней в миру. Рана оказалась глубокой. Хиония металась с ножом наперевес, уворачиваясь от рук, которые пытались ее поймать, и кричала сорванным голосом: «Смерть антихристу!..» Раненый старец, боровшийся за свою жизнь, не смог помешать началу войны. Он ее страшился, считая концом всему.
Предложение о Гороховой было моментом истины. Николай Александрович понял, что он – гений. Вернее, тонкий дипломат, нейтрализовавший одним ударом дурное настроение Александры Федоровны. Он перевел стрелки на другое, на новую ситуацию, в которой они никогда раньше не были, и ненависть уступила место непривычным заботам.
– Он здесь! – сказала с надрывом императрица. – Я везде чувствую его.
– А там будете чувствовать еще больше.
– Но это идея, согласитесь, весьма странная, – похоже, Алекс начала приходить в себя. – Mad, crazy and strange … Не царское это дело, Ники. Согласитесь, совсем не царское.
– Что легче охранять, дворец или частную квартиру?
– Конечно, дворец.
– Сомневаюсь. Раньше вокруг дворцов были рвы и крепостные стены. Но как только дворец перестал быть крепостью, возникли проблемы с охраной. Сколько нужно солдат, чтобы закрыть бессчетные углы этих великолепных зданий?
– Поедемте в московский Кремль. Там есть крепостные стены, которые укроют нас от врагов, – предложила императрица.
– С удовольствием. Но там не будет памяти о старце. Выбирайте, я на всё согласен, – пошел на попятную Николай Александрович, решив рискнуть.
А сам подумал: Кажется, я выиграл!..
Он никогда не взвешивал «за» и «против» своих собственных решений, надеясь, что исторический поток или Божья воля вынесут его страну в безопасное место. Но последняя война показала, что поток несет Россию совсем не туда. Оставалась или сакральная жертва а-ля Людовик и Мария-Антуанетта, или… Или что-то совсем неизвестное, ломающее определенный заранее порядок вещей. Смена всей парадигмы личного поведения. И он как опытный фаталист чувствовал, что только на этом пути изменений во всем, прежде всего в самом себе, можно достигнуть неожиданных результатов. Революция и проигрыш в войне были, увы, ожидаемы и логичны. А если переменить жизнь главного действующего лица, переменить так, чтобы даже близкие люди ничего бы не поняли? Я схожу с ума, я безумен!.. Меня нужно запереть в сумасшедший дом!..
2
Косметический ремонт квартиры на Гороховой, 64 делался в крайней спешке. Апартаменты убиенного старца занимали почти целый этаж, часть окон выходила во двор, другие смотрели на проезжую часть. В газетах появилось сообщение, что известный дом в центре Питера отторгнут Николаем Вторым под свой личный кабинет. Царь выразил желание в эти трудные дни быть рядом со своим народом, в городской суете и сутолоке. Но это была лишь часть правды.
Полной же правдой было то, что целый дом пришлось выселять во имя безопасности государя императора и его семьи. В части квартир решили поместить остатки распущенных Временным правительством столичных жандармов, тех людей, которые не успели еще убежать за границу или смертельно заболеть от собственной ненужности. В других – расселить адъютантов и установить им рабочий день, после которого они могли возвращаться к своим семьям и женам. Это было похоже на обычный департамент, который возглавляло первое лицо в государстве.
В самих же апартаментах Григория Распутина рабочие, делавшие ремонт, обнаружили детали дамского нижнего белья, бумажные иконки, затоптанные на полу, и реестры личных доходов. Здесь Дорогой Друг принимал сирых и убогих со всей России и за разумную плату обещал молиться за их грешные души. Здесь же он решал и практические государственные вопросы – помогала близость к Семье и к Маме, которая не отказывала ни в одной просьбе.
Весть о скором переезде Николая на Гороховую породила в остатках высшего общества скорее скорбь, чем смех. Все сошлись на том, что государь сильно заболел. И кличка « Гороховый царь » обещала прилипнуть к нему надолго.
3
– …Вы что?! Вы что себе позволяете?! Думаете, что если вы – Государь всея Руси, то вам все можно?!
На губах Милюкова выступила пена. Министр иностранных дел Временного правительства готов был выпрыгнуть из самого себя. Его ломало, как отражение в разбитом зеркале. Царь Горох! – твердил он про себя. – Как же ты надоел, проклятый, за двадцать три года!..
Государь вспомнил, глядя на него, как баловался в детстве. Он ел мыло, а потом бросался на пол, изображая падучую, и мыльная пена стекала на подбородок. Глупые шутки. Мой бедный отец, зачем я тебя так?..
– …Вы понимаете, что все сношения с Францией и Англией теперь под угрозой?! Разбивать Священный союз, к которому присоединились Америка и Канада, не позволено никому!..
– Да, это правда, – пробормотал смущенно Николай Александрович. – Вышло дурно. Неловкое положение…
Он был похож на двоечника, которого строгие родители уличили в неуспеваемости. Закурил, вставив папиросу в заранее припасенный мундштук.
Он приехал в Таврический дворец на заседание кабинета министров с желанием просто поглядеть в их лица. Скандал его не слишком тронул, так как закалка, которой способствовала Александра Федоровна, превращалась постепенно в иммунитет против склоки, не касающейся его семьи.
– …И что же теперь делать мне и моему Министерству?! Как объяснить ваш сепаратный сговор за спиной легитимно выбранной власти?
– Это вы-то выбранные? – искренне удивился Николай Александрович. – Каким Макаром?
– Не Макаром, а политическими партиями! При чем здесь какой-то Макар?! Что вы себе позволяете?! – вскричал Милюков, простирая руки над головой и призывая небо в свидетели.
– Вам должно быть известно, ваше величество, каким образом сформирован кабинет, – терпеливо напомнил председатель совета министров князь Львов.
– И каким же? Я был на фронте, когда вы образовались, – сказал государь. – Со мной даже не посоветовались, а поставили перед фактом.
– Состав нашего кабинета – плод длительных дискуссий со всеми партиями в Государственной думе.
– Но не со мной.
– Не исключено, что в ближайшем будущем Советы рабочих и солдатских депутатов кооптируют в наши ряды новых министров…
– Депутаты… Советы… Не знаю о таких, – пробормотал государь император.
– Так узнайте, – подал свой голос Александр Федорович Керенский.
Они сидели перед ним за круглым столом, в центре которого стояла ваза с апельсинами и ананасом. Одиннадцать мужей в апостольском чине. А он был двенадцатым, провинившимся, как Петр после троекратного отречения от Христа. По краям лежали девственные листки писчей бумаги с отточенными карандашами. А царь маялся перед министрами, словно мальчик; ему даже не предложили сесть…
– Рад вас видеть… – сказал Николай Александрович Керенскому. – Забыл только, какое министерство вам доверили…
– Я – министр юстиции, – объяснил Керенский, мгновенно почернев, словно от копоти.
– Прекрасно. Но при чем здесь юстиция? Вы же «трудовик», если мне не изменяет память…
– А что, труд и законы у нас разделены? – едко спросил Александр Федорович.
– Конечно. В России всегда так было. Но вы, надеюсь, исправите это грустное положение.
Нет, все-таки князь Львов – единственный из них, в ком чувствуется порода. Эта ухоженная, промытая лавандой борода, говорящая о связи с почвой, эти грустные глаза дворянского умника, все понимающего и готового ко всему… Почти Столыпин. Остальные же слова доброго не стоят. И ни одного близкого лица. Впрочем, есть один… Гучков! Который требовал моего отречения в салон-вагоне… Почти родственник, знающий интимные стороны моей беды.