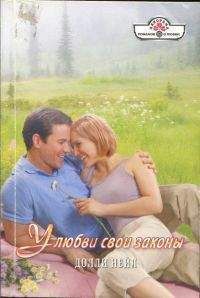Марк Берколайко - Фарватер
Но Людочка, не слыша проборматываемых им слов, сетовала, что поздно уже являться с повинной головой, что вспоминал он о ней редко, когда в известно каком месте припекало; что каждый раз, отсчитывая деньги, спрашивал, как барин, добрый, но гонористый: «Не обидел?» А ведь обижал, еще как обижал: она-то к нему со всей душой, а он?! Ну, не любил, бывает, но хотя бы как с ровней мог себя вести? Хотя б в последний день? Однако ж дудки: снова деньги… потом сделал свое мужское дело – и за порог, и не оглянулся, прямо как с продажной какой… И соседки долго об этом судачили: прямо как с продажной какой!
…Становилось стыдно, и пытался объяснить, что так уж сложилось, так они условились – глупо, нелепо, теперь-то он это понял, но ведь условились, значит, и она сама четыре года назад полагала, что удовольствие да плюс деньги – куда ж еще разумнее? И не только по мужскому делу он приходил, так же как она принимала его не только по женскому… нет, привязался, по крайней мере к ее телу, и горюет нынче, да и будет горевать, что оно в земле. Вот и просит у нее прощения – ради дочери, а значит, искренне, с твердым намерением никогда больше не относиться к людям свысока, какими бы заурядными они ему ни казались.
Однако нет, она его не слышала, приходя будто бы только для того, чтобы повсхлипывать. И словно бы договорилась с войной – и та каждый ее всхлип поддерживала то грохотом орудий, то стрекотом пулеметов, а вслед за тем – проклятье! – неизменно слышались чьи-то стоны и предсмертные хрипы.
И тогда, отчаявшись, он прокричал ей совсем-совсем последнее «Прости!» и, теперь уже не спрашивая себя, не сходит ли с ума, а твердо в этом уверяясь, воззвал к той, перед кем считал себя виновным пожизненно.
Девочка с заячьей губой являлась, участливо слушала, понятливо кивала – и молчала.
Но молчала так взыскующе, что он припоминал всю свою жизнь, пластуя ее по слоям, плотности которых раньше не замечал.
Вот слой «Гимназия», и неужели промчавшийся мимо тебя юнец – был я?
«Учеба в Петербурге» – тонкий слой; следом же за ним тот, о котором хотелось бы забыть, – «Цирк».
Как огорчен был дед, когда замечательный Политехнический институт был оставлен – и ради чего? Ради утех толпы? Сколько гордыни, сколько пренебрежения к деду, самому близкому человеку – неужели и тогда был я?!
Потом «стивидорство», но и здесь иногда недоумеваю: я ли это?
«Разговор с Толстым»…
Господи, да было ли в моей жизни время, на которое из нашего с тобою, девочка, несуществования времени можно взглянуть без содрогания?
Ты ни в чем меня не винишь. Потому хочется спросить именно тебя: «Полно, в самом деле мой фарватер – это мой? Фарватер?»
Но не спрашиваю, страшась ответного «нет».
А пуще этого боюсь ответного «да». Случись оно, станет еще тревожнее.
Риночке о своих терзаниях не писал – берег ее мир, в котором есть время, в котором теперь все так цельно и наполненно.
«…Как чудесно это лето, а ведь год на дворе 1916-й, високосный! Газеты трубят о брусиловском прорыве, о том, что австрияки наголову разбиты, стало быть, Вена – вот-вот наша.
Неужели ты скоро вернешься?! – мечтаю об этом, но опасаюсь сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо!
И не вздумай больше писать о ничтожном своем вкладе в этот блестящий успех. И раньше с трудом верилось, а теперь уж точно не поверю!
Дело в том, что Леонид Торобчинский прибыл в краткий отпуск и рассказал, как в их госпитале ходят легенды о санитаре, который на себе по двое-трое раненых мигом в перевязочный пункт доставляет. Так и говорят: «В его руки попадешь, смерть за тобою не угонится».
Леонид предположил, что это о «вашем Георгии Николаевиче», а мне и предполагать не надо – о ком же еще?! Теперь понимаю, почему тебе отпуск не дают, кто же тебя, ТАКОГО, заменит?!
Только умоляю, не рискуй собою сверх меры – умоляю!!!
А вчера, когда гуляла с нашей девочкой, подошел тот наглец-нувориш, что посмел тебя на пляже упрекнуть за запах ворвани. И без всяких околичностей предложил царское содержание. Лопается, наверное, мерзавец, от барышей и воровства на военных поставках, вот и решил меня купить. Я было рассердилась, а потом – ну хохотать! Стешечка же, мое настроение мигом улавливающая, сначала захныкала, но затем тоже засмеялась, во все свои четыре великолепные зуба. Наглец уже ретировался, а мы все заливались, друг на друга глядя, как две хулиганки с Молдаванки, право слово!»
Однако не только Вену, а и Львов не взяли.
И проклятая война опять замерла в том состоянии, когда гибель уже не воспринимается как «пал в бою» или даже «отвоевался», а превращается в «отмучился».
И дурная эта бесконечность стала казаться Георгию неотменимой, непреложной, как Людочкины жалобы, как молчание девочки с заячьей губой, как исчезновение Толстого в густом тумане…
Но то, что для него, натуры необычайно деятельной, разрешилось бесконечным терпением, на войне гораздо более насущным, нежели героизм, – для других, слишком многих других, стало источником истерического раздражения, так легко сменившего истерический же патриотизм; источником из печенок рвущейся ярости.
«…Впервые в жизни Рождество и Новый год были мучительны, как долгое прощание. И мы с твоим дедом повторяли друг другу «Бог даст, все обойдется!», только когда видели, как лучится Стешечка. Кстати, и Павлушки, позабыв о напускаемой на себя серьезности, прыгали у елки, развлекая девочку…
А что должно обойтись, не знаю. Война не проигрывается, скорее наоборот, – это даже мне, дочери боевого офицера, ясно. Англичанам и французам не менее нашего тяжело – во всяком случае, немцы на фронте травят их газом, а в тылу большинство продуктов распределяется по карточкам…
Так что же нас так гнетет? Разговоры о том, как много мерзавцев наживается на военных поставках? Но по-настоящему никто их и не осуждает (иногда даже кажется, что в глубине души одобряют). Зато бурно злятся на царя. Расхожее мнение: «Николай глуп!» А кайзер Вильгельм, одной с ним породы и крови, много умнее? Но ведь в Германии при этом так не воруют!
Ликуют, что убит Распутин. Рады, что на темного, дикого мужика навалились в подвале отменные аристократы и отменный монархист. Навалились, разумеется, во имя спасения России, заодно приучая всех к мысли, что расправа – самый удобный способ ее спасать. А совсем, кажется, недавно возмущались жестокосердием подавлявшего бунты Столыпина – так ведь тот все же опирался на трибуналы, а не на «Повесить – и вся недолга!»
…Была б магометанкой, знала бы, что думать о будущем – грех, поскольку оно всецело в воле Аллаха, а долг мой – благодарить его за какое-никакое настоящее. Но я – православная и боюсь, что ежели в настоящем так быстро множится хаос, то нет оснований уповать на будущее.
Предчувствую страшные испытания, но как стать к ним готовой? Молиться? Молюсь! Еще чаще? Горячее? Проникновеннее? Не получается!
Каюсь в этом Богородице, чувствую, что она меня жалеет, но спасительную руку не протягивает.
И нет для меня ни на земле, ни выше другой спасительной руки, кроме как твоей.
Неужели, ощущая свою богооставленность, обожествляю тебя?..»
«Когда такое письмо приходит на фронт без единого вымарывания военной цензурой, – думал Георгий, – значит, в обесточенной душе народа война уже проиграна. Что толку в завоевании Буковины и почти всей Галиции? Прав был Толстой, когда писал о сломленной воле французов после, казалось бы, победного для них Бородина и взятия Москвы. Война теперь не ведется, а отбывается, как обрыдлая служба…»
Он и раньше не писал Риночке пространно, а весною и летом 1917-го на ее все более отчаянные письма отвечал совсем коротко, вроде: «Главное, все мы живы. Люблю». Ее же ужасало все: что прежние губернаторы, худо-бедно управлявшие, заменены на болтливых комиссаров; что в церквях, вмиг позабыв о вековом единстве православия и самодержавия, возглашают «многая лета» Временному правительству; что Советы становятся все наглее…
После провала июньского наступления с фронта уже не бежали тайком, а просто уезжали, приговаривая: «До Тамбова немец не дойдет». Однако винтовки с собою, на всякий случай, прихватывали.
Оставшиеся маялись в пустеющих блиндажах и вели апокалиптические разговоры; и, будто бы в довершение к ним, ближе уже к концу октября поползли слухи об охватившей южные губернии страшной инфлюэнце.
Последняя ее записка была вложена в дедово письмо, и написана она была так, словно заглавные, «большие», буквы стали для Риночки непосильными, а знаки препинания – препонами.
«девочку сейчас хоронят заболели вместе она сгорела за два дня а я умру очень скоро выгнала из дому всех чтобы не заразились
совсем не страшно только очень неряшливо из носа все время течет кровь пятна повсюду и не знаю как павлушка сможет потом здесь жить