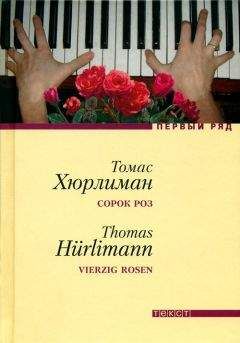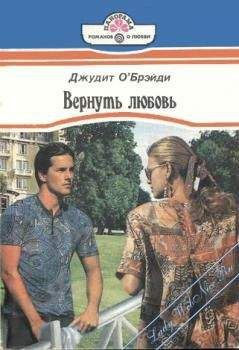Светлана Смолина - Медвежьи сны
– Вечером прикажите подогнать машину к ресторану.
– Это что еще за демонстрация? – заворчал он, выбравшись из ауди со своей стороны. – На кой дьявол мне твоя машина?
Они стояли друг против друга, как несколько часов назад в подъезде дома на Колхозной, только разделяло их не полметра пространства, а глубокая ледяная пропасть, куда проваливались его вопросы.
– Мария?
– Вам льстит, что они считают меня вашей… – Она на секунду запнулась, подбирая уместное слово. – Содержанкой. И вам плевать, что меня это оскорбляет. Вы платите мне за работу, и я ее честно делаю. Других платных услуг я не оказываю и в планах не держу. И моя любезность, – она специально подчеркнула последнее слово, – мое добровольное согласие поехать с вами и, в результате, вынужденное участие в этом фарсе были оценены неадекватно всеми сторонами.
– Ты можешь выражаться по-человечески? – возмутился он.
– Я с вами спать не собираюсь! – Она без ложной стыдливости перевела витиеватую речь на доступный ему язык. – Поэтому донесите до своих… подданных, чтобы в моем присутствии держали язык за зубами.
– Да я-то в чем виноват, что они болтают?!
– Не давайте им повода. Не ходите ко мне.
– Ты думаешь, что в угоду сплетням…
– Я не хочу этих визитов. И мои мотивы никого не касаются.
– Ты вот что, ты не зарывайся! Это мне решать, куда ходить.
Маруся смотрела вдаль, ауди по-кошачьи урчала, прохожие оглядывались, узнавая участников уличной сценки.
– Маша, не дури, – примирительно сказал он, не дождавшись ответа. – Все же было хорошо.
– Ничего не было хорошо. Извините, я пойду.
Она вздохнула и отступила, оставив его в недоумении один на один с работающим автомобилем.
Глава 4. Чужая жена
Вечером он наблюдал за ней с привычного места возле сцены. Знакомый голос позвякивал металлическими нотками, в паузах между песнями пальцы нервно крутили обручальное кольцо, реплики, обращенные в зал, были отстраненными. В остальном это была все та же тревожащая воображение Маруся, которую он встретил в кабинете начальника ГАИ, которая по-домашнему ворчала на его ранние визиты и уклонилась от поцелуя сегодня днем.
Он курил возле ее машины в неверном свете мигающего фонаря, а она явилась на стоянке, как герцогиня Мальборо в толпе обожающих поклонников, и держала в руке кусок мяса для нахального уличного пса с непомерно маленькими ушами на огромной башке. Дмитрий Алексеевич невольно посторонился, когда она прошла к машине, и швырнул тлеющую сигарету на дорогу, когда красная ауди стремительно выехала задом на улицу. Рыжий пес одним махом расправился с котлетой и бодро потрусил за машиной мимо оставшегося в одиночестве мужчины. И хозяин города вдруг позавидовал бездомной собаке, на которую она с элегантной небрежностью тратила заботу, и полночи бесился среди безмолвных трофеев в зале. Наутро он чувствовал себя разбитым и обманутым, но унижаться за чашку кофе перед ресторанной певичкой не поехал.
Маруся недолго поплакала в подушку о прошлом, которое в воспоминаниях вдруг стало светлым и счастливым, о настоящем, которое опутывало ее щупальцами рутины и безысходности, и о будущем, которое было мутным, как запотевшее стекло в ванной, и забылась тяжелым сном. А проснувшись ни свет ни заря, совсем расстроилась неизвестно чему, надумала всяких гадостей и про чужой город, в котором никак не могла ужиться с аборигенами, и про родной город, отнявший у нее мужа и привычную жизнь. К вечеру она почти успокоилась, уверив себя, что все равно все должно быть хорошо, даже если сейчас совершенно неясно, как это «хорошо» проявится в ее разоренной жизни.
А он после одинокого ужина заперся в кабинете с рабочими папками и бутылкой коньяка и, послюнявив палец, листал бумаги туда и обратно, глядя то на колонтитул с номером страницы, то в блестящую поверхность стола.
Проблемы вырастали практически ниоткуда, из неудобных поправок к экологическому законодательству, из курсовых скачков мировой валюты, из человеческого фактора, который не давал расслабиться ни на минуту. Ему следовало сосредоточиться на стратегических задачах, а в голову лезла какая-то ерунда, вроде опоздания на совещание главного инженера или затеянного ремонта в питерской квартире.
Уже в ночи он вдруг вспомнил про певичку. Как она выходит из дверей, отдает собаке кусок мяса и бросает сумочку на пассажирское сиденье. Спина от этой картинки почему-то похолодела, а ладони вспотели. Глупость какая-то, так не бывает, чтобы сразу и жарко и холодно! Ну, вышла из ресторана, велико событие! Но разыгравшееся воображение повело его дальше в ночь, в яркие подъездные огни и интимный полумрак ее квартиры с разбросанными вещами и миллионом баночек и тюбиков в ванной, где в белоснежном пластиковом корыте хотелось расслабиться под пенной шапкой, в мире ее запахов и прикосновений. С ней можно было даже утонуть без сожаления, не успев заметить, что вот ты жив, а вот тебя подхватывает коварный водоворот, всасывает в другие миры, как крупинку морской соли.
Тебя, привыкшего думать, что все бабы стервы, и называть вещи своими именами, грубыми и приземленными, когда все шарахаются от тяжеловесной определенности этих слов и смотрят криво, но молчат, потому что ты хозяин и тебе можно все. А она как будто не замечает. Разве может кто-то просто не замечать?
Тебя, считавшего, что заниматься любовью – это подарить безделушку и одеть, накормить и развлечь, потом раздеть, лечь сверху, перевернуть, переключить внимание на что угодно, снова перевернуть, сказать «не болтай, спи» и отодвинуться, а утром проснуться и уйти. Или распорядиться насчет кофе и завтрака, а потом полчаса смотреть в сторону и ждать, когда можно выставить вон. Иногда до следующего раза по той же схеме с незначительными отклонениями, где раздевается она сама и делает все сама, и нет нужды переключать внимание, потому что утром рано вставать.
Почему же ему кажется, что с ней привычная схема не сработает? Она не ждет подарков, даже как-то подчеркнуто не ждет. И ужин для нее должен закончиться именно ужином. А раздеть ее получается только глазами, потому что рук она сторонится, а если оказывается слишком близко, руки не решаются зайти так далеко, как с другими. Как тогда в грязном подъезде. Или это не руки, а голова, которая не знает, как подступиться к ней, даже если он уже держит ее в руках. То есть он всем телом подступает, вожделеет, ощущает и вскипает, а подступить не может.
Конечно же, он может все! Может раздеть и пристально изучать от ключиц до щиколоток. Улечься сверху или перевернуть лицом в подушку. Целовать беззащитную шею, а потом дождаться, когда уснет, и снова изучать… И утром целовать пахнущие кофе губы, обнять прямо на кухне в полосе солнечного света, пролившегося на теплую итальянскую плитку, гулять ладонью вдоль выгнутой спины, довести до изнеможения, лихорадочного румянца, почти неузнаваемой маски на красивом лице. Или лучше вовсе не трогать утром, отвести в спальню, посмотреть, как одевается, вспомнить, что много дел, и не пойти проводить даже до двери. Но стоит подумать обо всем этом, как шестое, седьмое или двадцать пятое чувство вдруг пихает под ребра, где селезенка, и шепчет, шепчет, что если попробовать так, как со всеми, даже с небольшими вариациями, то ничего не получится. То есть будут ночная возня в постели, утренний секс и вкусный завтрак. А потом она сама найдет выход из дома. И второго раза уже не будет. Хотя зачем ему с ней второй раз, он понять никак не мог. Но почему-то сразу начинал думать именно про второй раз. И это было необъяснимо и парадоксально, как если бы вдруг не заниматься любовью, а любить.
Любить было не для него. Он вырос из этих глупых представлений о любви, не успев окунуться в нее с головой, так, только ноги слегка намочив и получив жар и температурный бред. Любовь в юности делала его больным, истощала. А когда он повзрослел, то спасался тем, что любовь с первого раза не валит с ног. И потому ему нравился именно первый раз, когда говоришь себе, что можно пробовать еще вот с этой или с той, вдруг окажется хотя бы интересно, а наутро понимаешь, что снова все, как всегда. Не интересно, не уникально. Поэтому многообещающие разговоры за ужином и волнующие стоны после, слова, которые очередная девица считает обязательными, когда он уже не хочет ничего, – это только для одного раза.
Тогда почему с этой певичкой он вдруг сразу подумал про пятый или даже сто пятый? А когда подумал – и вспомнить не мог. Сейчас в кабинетно-коньячном бреду казалось, что как только увидел и спросил «Чего ты хочешь за машину?», хотя понимал, что машина мелочь. В тот день он сразу захотел узнать, что она хочет за всю себя.
Каков дурак! И чего он рассиропился в подъезде, зачем прислушивался к подреберному шепоту? Прижал бы к стене со вспучившейся штукатуркой и залез всей пятерней под юбку. И тогда она сама, пионерка Маша с аметистовым камушком в мамином колечке, со счастливыми глазами, смотрящими в гарантированно светлое будущее, будет ластиться жарким телом и запускать нетерпеливые пальцы в короткий ежик на затылке, потому что хочет, тоже хочет, хоть и врет, что ей не надо.