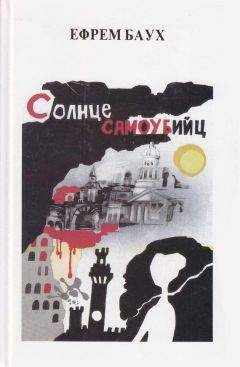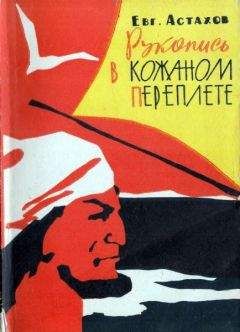Эфраим Баух - Над краем кратера
Я спускался к выходной двери, и на тебе. Нина.
Только ее не хватало в этот миг.
Опять что-то оборвалось пустотой в животе.
– Откуда ты так поздно? – вопрос был явно не к месту, позорно глуп.
– Для тебя во всех отношениях поздно, – сказала она, с какой-то веселой, не присущей ей бесшабашностью, направляясь мимо меня вверх по ступеням.
– Нина, – я схватил ее за локоть, – мне очень плохо. Совсем я запутался.
Она посмотрела на меня без всякого удивления, показалось мне, даже несколько насмешливо, но не злорадно, взяла за руку:
– Пошли. Я сейчас одна в комнате. Девчонки разъехались.
Что это? Еще одна ловушка? Не тешь себя. Женщина отлично чувствует в мужчинах побитых псов, и в ней пробуждается жалость. Зашли в комнату. Стоя ко мне спиной, она наводила какой-то порядок.
– Нина, ты прости меня за то, что вёл себя по отношению к тебе недостойно, – я сделал движение в ее сторону.
– Сядь, – сказала она, не оборачиваясь. – Тебя нельзя подпускать близко. Да ты ведь по-другому не можешь. Вот, Марат, прям как стержень, хоть и мастер по круглому мячу. А ты ни одного рывка не сделаешь, чтобы тут же не отступить.
– Скорее, не оступиться.
– Помогла тебе хоть раз эта игра слов?
Я не узнавал ее. Непонятно было, шутит ли, намекает на что-то, издевается? И голос ее совершенно изменился: в нем звучали повелительные, уверенные в себе и, как не странно, этим успокаивающие нотки. И слов-то я таких от нее раньше не слышал.
– А я ведь и о тебе придумал: Ниночка – блондиночка.
– Не идет тебе так сюсюкать, – сказал она и села рядом. Но под ее взглядом рука моя не поднималась обнять ее. – Ну, что у тебя стряслось?
И я, действительно, как побитый пёс, выложил ей всё как на духу.
Она встала, потрепала мою шевелюру и сказала:
– Дурень ты, дурень. Иди, проспись. От любовных мук во сне трезвеют не хуже, чем от водки. Утро вечера мудренее.
И она легонько подтолкнула меня к двери.
Я лег, и вправду мгновенно уснул с легким сердцем.
С утра был понедельник – тяжелый день. Город был пуст, словно все опохмелялись после воскресной пьянки. Тенты на пустынном пляже казались сникшими и печальными.
Я зашел в чащу и долго лежал на траве. Бесцельность кружила голову не хуже вина. Одиночество мое разделяли лишь лодки, позванивающие цепями у небольшого деревянного настила. Цепкость внутренних цепей когтила меня.
Снял у лодочника одну из лодок, выплыл на середину озера, поднял весла и лег на дно лодки, закинув руки за голову. Покой осторожно и недоверчиво закрадывался в душу. Через некоторое время, подняв голову, я не мог определить, где я по отношению к знакомому окружению. И это удивительное впервые в жизни ощутимое мной чувство потери ориентиров в пространстве ощущалось спасительным в моем положении.
Несколько раз ложился спиной на дно лодки и поднимался. Оказывается, потеря ориентира, смертельно пугающая человека, для меня была спасительной, словно бы с каждым разом всё более ослабевал камень, висящий на моей шее. В какое-то мгновенье я физически ощутил, как он свалился за борт.
Мне даже показалось, что я, подобно Эдмону Дантесу, будущему графу Монтекристо, сумел, уже идя на дно, вырваться из мешка, который ушел на дно вместе с грузом, и вынырнул на поверхность новой жизни.
IV
Овечье небо Крыма
Иду в маршрут. Шагаю целый день я.
Замру. Внезапен краснозёмный горб
Дороги в ночь. О, праздничность мгновенья:
Я одинок в безмолвье Крымских гор.
Гудят патрульных самолетов лопасти,
Поёт сверчок, присев на свой шесток.
Я листья соберу у края пропасти
И лягу так, чтоб взгляд мой – на восток.
Под головою листья пахнут прелью,
Над головой луна взошла в зенит —
То плещется в речной воде форелью,
То лунной тягой в пропастях звенит.
И никаких тревог и притязаний,
И в вечности душа растворена,
И, как птенцы, из гнезд воспоминаний
Выпархивают в полночь имена
Всех дорогих – ушедших и живущих,
Громада гор и моря тянет в даль.
И мама с бабкой спят в далеких кущах,
И я им снюсь, и легкая печаль,
Подпёртая громадой гор надёжно,
Тревогу растворяет без следа,
Покой глубокий, полный, осторожно
Течёт в их сон, как полая вода.
И прошлое усталым Вавилоном
Всё копится. Но вновь рождают нас
Раскрывшимся в простор семитским лоном,
Лиловым в этот поздний лунный час.
И в миг молитвы замирает слово,
Которое сквозь жизнь несу отцу.
И шарит ветер пальцами слепого,
Взъерошит листья и прильнет к лицу.
А в полночь натекает гул безвременья
Из лет грядущих, втягивая в транс,
Но небоязнь, что накопилась в темени,
Всё обращает в музыку пространств.
Внезапно и тревожно пробуждение
Средь палых листьев, диких горных трав —
На кладбище пустынном воскресение:
И, вздрогнув, оживаешь, смерть поправ…
В бесполой мгле, от ног моих прядающей
Вдаль через скалы и недвижный лес,
Удушьем пробужден птенец страдающий
И клювом бьется в скорлупу небес.
Еще мгновенье, и птенец пробьется —
И прямо подо мной восходит солнце,
Чтоб аспидно-зеленой дымкой влиться,
Как эликсир, вглубь всех щелей и пор.
И я один. И не с кем поделиться
Опалом вод, ультрамарином гор.
И лишь лесок, что ко всему привычен,
Плечом к плечу со мною встал средь скал —
Как текст, что – тёмен и метафизичен —
Меня в горах на ощупь отыскал.
Спасение в работе. Быть благодарным миру, где всегда непочатый край работы. А за край его бегут облака. Беззвучно их сухое течение.
Срез породы – в несколько миллиметров – под микроскопом. Свет сквозь скрещенные линзы исландского шпата тонко окрашивает в лимонное, коричневое, зеленое, розовое – минералы, сочетающиеся в породе. Свет работает в камне, открывает душу камня, его световой сон, окаменевшую память земной плоти, горячих ее денечков. Горка шлифов рядом с микроскопом. Кропотливо описываю каждый шлиф: у меня дипломная работа по петрографии.
В лаборатории сумрак, горят настольные лампы, груды книг на столах. И в каждом камне, вещи, тетради, блокноте, справочнике – работа, работа. А за окном во всю цветут деревья, потеют стволы, круглятся облака, как будто рядом, за деревьями, фрегат напряг все паруса, и только ждет: сбежать бы.
И мне кажется, только бы выйти в море, и я уже иной, и прошлое оставлено на берегу вместе с одеждой, как в притче о принце Сакья-Муни, который, сбросив старые одежды, стал Буддой. А пока надеваю пальто, хранящее память тяжких мгновений, и мне понятна неприязнь человека к тому, кто слишком много о нем знает.
Прежде, чем уйти в общежитие, иду через университетский двор в столярную, где пахнет свежими стружками. Старые студенческие столы, испещренные надписями. Их врезали ножичками, гвоздями в память скучных часов. С жадностью читаю клички, любовные излияния, ножевую боль разочарований. Старые столы обновляются: веселый дядя Коля с карандашом за ухом стучит по дереву. Меня успокаивает глухой стук деревяшек.
Я завидую деревянным вещам, их не тонущей лёгкости и забывчивости. Вчера были деревом, держались за землю, рвались в небо, жили взахлёб, а сегодня с готовностью принимают полагаемую и пролагаемую им топором и рубанком форму. Беспамятны. Пахнут свежестью. Легко и глухо откликаются на любой удар судьбы. Беззлобно отзывчивы и всепрощающи. Только вот огня боятся, а меня опалило, сожгло, но не испепелило.
Постукивает дядя Коля по дереву, скоблит. Сбрасывают столы груз памяти тех, кто, переплыв на этих утлых кораблях университетское море, давно и прочно осел на суше, так что и не обнаружить в этих столах отошедший в прошлое кусок своей жизни. Хотя, как я вычитал, безуспешно пытаясь забить себе голову всякой всячиной, хранили же афиняне много лет корабль Тезея. Только меняли обветшавшие доски и бревна на новые – свежие и крепкие. Так, что одни философы считали, что корабль уже превратился в новый. Другие же – что он остается самим собой. Постукивает дядя Коля по деревянным предметам. Холодный восторг прошибает меня: стать деревом.
Только дерево может понять каторжника. Приковано к земле, как я прикован к месту, где отстучали ее каблучки.
Что оно – дерево? Порыв к небу земли, простирающей ветви рук, – замерший одеревеневший крик.
* * *Защита прошла сверх ожидания. Ребята волновались, а я был так далек, так отстранен внутри, так четок в деле. Невыносимо жить в городе, в закоулках которого, в стенах, деревьях, мостовых, в самом воздухе – столько твоей памяти. Скорее бы в Крым. У меня направление в Симферополь, в Институт минерального сырья.
В коридорах Университета – сухое солнце, пыль на подоконниках.
До Одессы, а там – на корабль.
В вестибюле идет побелка. У крыльца совсем молоденькие неуверенные мальчики и девочки смотрят, как на диковинку, на покрытый пылью фонтан у входа, который за пять лет моей учебы так и ни разу не забил, но для них он первая увиденная ими неотъемлемая часть будущей их студенческой жизни.