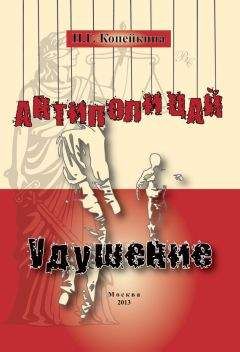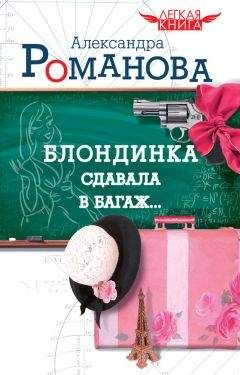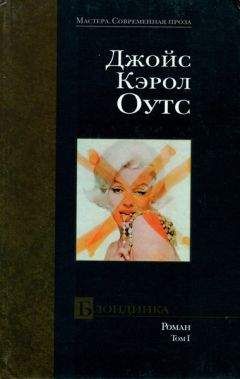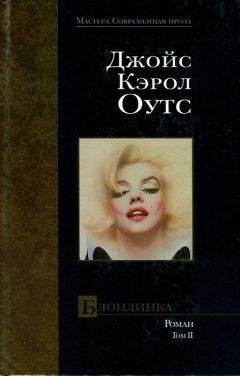Николай Семченко - Соглядатай, или Красный таракан
– Не удивляйтесь, – сказала Катерина. – Это не люди, а змеи. Они встречали немцев хлебом-солью. Их выслали к нам со Смоленщины. Кулаки!
– Старушка напомнила мне мою матушку, – повинилась я. – Вот и пошла к ним…
– Ладно, переночуете у меня…
Катерина предложила мне стул, а сама куда-то вышла. Я огляделась: хатка бедная, но чистенькая, на лежанке спал малыш. Ему, наверное, и годика ещё не исполнилось. Он зашевелился, покряхтел, зачмокал и снова утих.
Хозяйка внесла цинковую ванночку. Я подумала, что она собралась купать на ночь ребёнка.
– Ну вот, помоете голову, – сказала Катерина. – Во дворе кипячу целый бак воды, так что полностью сполоснётесь. Отдохнёте, а завтра дальше двинетесь. Вы в каком селе живёте?
– В Большой Софиевке.
– Осталось-то всего ничего: километров двадцать пять, пожалуй, будет. За день и дойдёте. Ну, давайте мыть голову…
– Я даже косы не могу расплести, – засмущалась я. – Руки меня не слушаются. Будто онемели…
Катерина расплела мне косы, помыла волосы, завязала их полотенцем, потом принесла ещё воды:
– Не стесняйтесь! Раздевайтесь… Вижу, у вас чулки в пятнах… Прилипли… Ничего, мы их потихонечку отмочим…
Я молча подчинялась движениям её быстрых рук и терпела боль, стискивая зубы. Катерина, не брезгуя, сама выстирала чулки и бинты, развесила их на печке и опять во двор выбежала. А я прилегла на кровать и тут же забылась тяжелым сном. И не слышала, как Катерина снова в хате объявилась.
– Вставайте! – сказала она громко. – Я борщ сварила. У меня во дворе летняя печка. На ней готовлю, чтоб в хате дыма не было…
Спасибо, не хочу, – ответила я.
– Да как же так? Я ведь для вас петуха зарезала, – расстроилась Катерина. – Не хочу, чтобы он немцам достался. Сколько тут народу проходило – я всех угощала. Куры у меня такие знатные были – красивые, рябенькие хохлатки, и зимой, и летом неслись! Теперь ни одной нет. И гусей тоже порубила. Чем фрицам они достанутся, пусть наши люди досыта поедят.
– Да как же вы зиму переживёте? – спросила я. – Ребёнка будет чем кормить?
– Корова осталась у меня, – ответила Катерина. – В погребе – картошка, капуста, овощь всякая припасена. Если идолы не отнимут, то перезимуем…
Я слушала её рассказ. Голос Кати постепенно приглущался и вскоре совсем стих. Я очнулась от звука ложки, выпавшей из моей руки в миску.
– Извините, Катерина, – прошептала я и, свалившись головой на подушку, мгновенно заснула.
(Бабушка, милая бабушка! Ты подробно описала и Катерину, и её малыша, который родился уже без отца: он ушёл на фронт и никогда не увидел своего первенца – погиб в первом же бою… И всех, кого встречала на своём пути домой, тоже подробно описала, и все разговоры, и все имена-фамилии сохранила твоя память. Наверное, ты хотела, чтобы тот, кто станет читать твои бумаги, тоже принял их как близких, сердечных людей? Таких сейчас ох как мало осталось! Ну, кто ж будет резать ради гостя последнего петуха? Или мыть незнакомому человеку больные ноги в струпьях и гное… О, как меня поразила твоя простая фраза: «С попутчиками свыкаешься за несколько часов пути, а если ещё и разделишь с ними пищу и кров, то они становятся тебе почти родственниками».
Я не стал перепечатывать на машинке это место твоей рукописи. Ты, бабушка, слишком уж жалобно описывала, как утром соскочила с кровати, но твои ноги сплелись, будто они из ваты, а не из костей и плоти – и ты рухнула на доливку, и завыла: «У-у-у-в-в-вы! Ноженьки, мои ноженьки! Как же я жить-то теперь стану, безногая калека?» И прибежала Катерина, и успокоила тебя, и ты ещё два дня у неё пробыла: она тебя мазала какими-то снадобьями, поила отварами трав, ухаживала как за малым дитятей – и твои ноги отошли, болячки подсохли, и ты сумела-таки дойти до родного села, и никому никогда не бахвалилась умением переносить все невзгоды… А, впрочем, я не о том хотел сказать! Ну, почему, скажи на милость, почему ты никогда-никогда не рассказывала обо всём этом мне? Всегда отделывалась какой-нибудь короткой фразой типа «Всем былонесладко, и мне – тоже». Что, мол, тут особого: вся страна жила трудно, тревожно, на пределе сил… Но героиню ты из себя не выписываешь, хотя все мемуаристы обычно приукрашивают своё прошлое…
Впрочем, ладно. Тут какой-то непорядок в рукописи. Вроде бы не хватает нескольких листов? О, точно! Из тетрадки выдернуты четыре странички. Зачем? Этого ты мне уже не объяснишь. Как жаль, что в последний год я так мало с тобой разговаривал! Вечно спешил, бежал-скакал, сам себя порою забывал. О, Господи, когда же будет та остановка, с которой можно спокойно оглянуться назад? А может, этого лучше вообще не делать? Вот ведь жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб… Орфей оглянулся – Эвредика вернулась в мир теней…)
И вот я дома. Сижу на русской печи, как мне велела мать. Вдруг, слышу, кто-то в сени зашёл, стучит в хату.
– Заходите!
Вошёл полицай Василий.
Мама мне уже много нарассказывала о нынешней сельской власти и панах-оборотнях. Этот Василий был бригадиром. Когда немцы подходили к соседнему району, пришло указание: поджечь скирды хлеба и эвакуировать население. Однако Василий подговорил ещё одного бригадира – Ивана, и они спрятались под скирдами, а как только услышали стрекот фашистских мотоциклов, так и вышли на дорогу с поднятыми вверх руками. «Большевики заставляли нас поджечь хлеб, а мы не послушались и сберегли его для вашей армии», – сказали они врагам. За это их произвели в полицаи.
– Здравствуйте, – сказал Василий.
– Здравствуйте, коли не шутите…
– Вот ты какая… Даже жалко, – он пристально смотрел на меня. – Больно уж хороша!
– Что вам нужно? – довольно мрачно спросила я, давая понять, что не желаю с ним долго разговаривать.
– Пан староста узнал, что ты вернулась домой, и велел завтра увести тебя в управу. Там всех комсомольцев берут на учёт…
– А почему завтра? У меня ноги больные. Я хочу хоть немножко отдохнуть и подлечиться…
– А что у тебя?
– Ящур.
– Жаль… Но это не беда, заживёт и пройдёт. Вот только давай с тобой дружбу заведём…
Он взял меня за плечи и притиснул к своей груди. От неожиданности я ткнулась головой ему в плечо и мигом отпрянула.
– Ну, что вы, дядя Вася?
– Какой я тебе дядя Вася? Давай будем встречаться…
– Как вам не стыдно! У вас жена, дети…
– Да откуда жена о нас узнает, если сами не разболтаем? Я знаю одно укромное место… Ну?
– Отойдите от меня! Кричать буду. Стекло разобью. Пусть соседи слышат!
– О, какая несговорчивая! Что ж, завтра утром к девяти часам чтоб в управе была, – сказал он и пошёл к дверям, но остановился и оглянулся:
– А я бы тебя, дурёху, всегда мог бы защищать. Никто бы тебя тут не тронул. Понятно?
– Не нужна мне ваша защита. Я не преступница.
– Ну-ну! Посмотрим, какие песни ты запоёшь завтра…
И наступило завтра. Мама собрала мне узелок с едой, заплакала:
– Ты ж, дочка, смотри, не огрызайся там, будь они прокляты, ироды! Теперь ихняя власть: что захотят, то и сделают.
– Мама, ну что вы всё плачете да причитаете! Я не маленькая. Вы сами меня учили: «Судьбу на коне не обскачешь». Один раз родилась – один раз и помирать буду.
– Дай Бог, чтоб ты вернулась, – мама перекрестила меня. – Ладно, ладно, не смотри на меня как коршун на куропатку. Знаю, что комсомольцы ни в Бога, ни в чёрта не верят. А всё ж – спаси тебя Бог!
Со мной в управу пошли ещё две молодые женщины. Их туда вызвали, чтобы разобраться, почему несколько дней не выходили на работы. У обеих, оказывается, болели дети, и полицай Василий об этом, конечно, знал. Но, кобель проклятый, потребовал от них того же, чего и от меня хотел добиться. Ничего не получилось.
– Ой, девчонки, – вздохнула рослая, широкоскулая Полина. – Как надоели эти полицаи… Скорей бы наши вернулись! Я б от радости свечу в церкви поставила.
– Вот подожди, придём в управу – там нам всем троим поставят свечу, – сказала Уля. – Кнутом по заднице!
– А кто из нас первой в кабинет пойдёт? – спросила Полина. – Я такая трусиха… Сейчас от смеха ржу, а как о кнуте подумаю – дрожу.
– Может, и не так больно, как стыдно, – сказала Уля. – При всех заголяться – ой!
В управе я первой шагнула в кабинет начальника полиции Мартыненки. Все знали, что его хотели судить за то, что он проворовался в районной сберкассе. Его уже даже посадили в КПЗ – камеру предварительного задержания, откуда он вышел при немцах героем. Надо же, пострадал от советской власти!
– Что лыбишься, комсомолка? – закричал Мартыненко. – Признавайся, жидобольшевики прислали тебя для шпионажа? Почему не выходишь на работу? Саботируешь новый порядок?
– У меня ноги больные, – ответила я. – Мне надо поле…