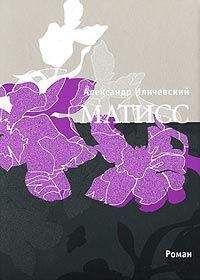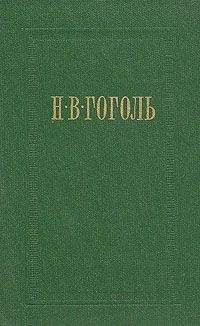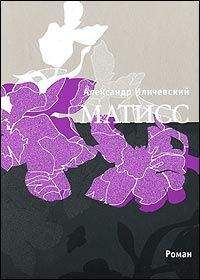Валерия Лисичко - Одинокий отец с грудным ребенком на руках снимет жилье. Чистоту и порядок гарантирую
За Лизой в салон водрузился Сгущёнкин, и «Жигуль» с ласковым именем Дуся двинулся в путь.
Директор спрыгнул с крылечка, помахал путникам носовым платком.
– Мы будем ждать Вас, граф! Возвращайтесь скорее! – закричал он.
Машина неторопливо скрылась за поворотом. Директор разревелся в голос. И Ирина обняла своего эмоционального начальника.
Неопределённость не пугала Сгущёнкина. К тому же рядом с ним хороший друг – Шалтай. С ним и его многочисленными родственниками-друзьями точно не пропадёшь.
Сгущёнкин не обратил внимания на то, с каким мрачным видом Шалтай косился на Лизу и котёнка. На то, что Толя руками перепачканными в детском питании (Сгущёнкин его только покормил), пачкает обивку шалтаевской Дуси. И как, оглядывая внутреннее убранство машины, Шалтай приговаривает: «Беда пришла, беда…» И, конечно, Сгущёнкин не подозревал, что у Шалтая есть своя жизнь и свои дела, и о том, что он может просто устать жить сгущёнковскими проблемами. Наивному Вольдемару Сгущёнкину казалось, что их с Шалтаем союз нерушим, но судьба распорядилась иначе.
Глава 33 Новая жизнь и три бутылки рома
Когда Дуся, покряхтывая, остановилась у подъезда многоэтажки, Сгущёнкин не сдержал удивления.
– Уууу, каланча! – выдал он.
– Двадцать шестой этаж наш, – сказал Шалтай. Сгущёнкин самодовольно представил себя на вершине горы.
– Я с Анечкой, с хозяйкой, пересекаться не хочу. Так что вещи перетащить помогу, а в дверь позвонишь, когда я скроюсь.
Сгущёнкин послушно кивнул.
Минут через двадцать вещи стояли на этаже перед дверью. Сгущёнкин держал Толечку на руках.
Шалтай положил руку другу на плечо и покачал головой.
– Удачи, друг, – сказал Шалтай.
– Не забывай нас, – Сгущёнкин покачивал Толечку, а тот смеялся и тянул ручки к качающемуся, как на шарнирах, Шалтаю.
– Всё, – махнул рукой Шалтай и быстрым шагом, перешедшим в бег, выскочил на лестничную клетку.
Сгущёнкин долго стоял неподвижно. Ему не верилось, что лестничная клетка «поглотила» друга. Сгущёнкину казалось: вот-вот и Шалтай вернётся, и их приключения продолжатся.
Тяжесть опустилась на сгущёнковское сердце. Но он взял себя в руки.
– Будем верить в лучшее, – приказал себе Сгущёнкин, повернулся к двери и надавил на звонок.
Дверь открыла маленькая худенькая женщина. Она куталась в шерсятную шаль. По её мутным, не способным сосредоточиться глазам и плавающим движениям, Сгущёнкин сообразил: дама не трезва.
– Заходи, – мрачно сказала она, глядя мимо Сгущёнкина, и небрежно махнула рукой.
Сгущёнкин вошёл в отделанную зеркалами прихожую и сразу почувствовал ауру богатства, но не того, умеренно-комфортного, с улицы Салтыкова-Щедрина, а шикарного, вычурного, манерного и обжигающего. Оно выпячивалось из каждого зеркала, подглядывало сквозь резные, инкрустированные камнями, ручки дверей и шкафов, и нависало над головой кованой вешалкой.
– Располагайся, – дама указала на дверь одной из комнат и на нетвёрдых ногах углубилась в дом. Толечка, восседавший на руках у папы, звонко рассмеялся и потянулся за женщиной.
– Агась, я быстренько, – засуетился Сгущёнкин. Он разом потерял остатки уверенности и почувствовал себя ничтожно маленьким на фоне окружившего его богатства.
Лиза мурлыкнула и, изогнувшись, вышла из-за Сгущёнковской ноги. Она осмотрелась и, намурлыкивая, прошла в комнату. Котёнок выскочил из отделения спортивной сумки, в котором ехал, и торпедой полетел за Лизой.
В комнате чету Сгущёнкиных ждал раскладной диван, журнальный столик, книжный шкаф и панорамное, в длину стены, окно. Рельефная деревянная полочка висела над диваном. У окна стояла детская коляска, которую вполне можно было использовать как кроватку для Толечки.
Сгущёнкин занялся обустройством комнаты: поставил мамину тумбу у изголовья дивана, разобрал вещи из спортивной сумки, часть убрал в диван, а часть положил в книжный шкаф. Томик Толстого он поместил на полочке у изголовья. Отправился на кухню и приготовил обед для Толечки.
С хозяйкой квартиры он столкнулся поздним вечером на кухне.
– Звать как? – спросила она.
– Вольдемар.
– Вольдемар, – скривилась дама, окутывая себя очередной струёй сигаретного дыма. – Сложно. Вовой будешь. Чтоб я запомнила.
Вольдемар нервно кивнул.
– А маленького?
– Толечка.
– Хорошее имя. Толяшка! Это ты хорошо придумал. Сгущёнкин закивал, как болванчик, которому щёлкнули по лбу.
– Не кипешись, – приказала дама (быстрые движения вызывали у неё тошноту). Голова отвалится.
Она пустила к потолку струю пряного дыма.
– Анна, – сказала она. – Николаевна.
Ранним утром Анна Николаевна уходила на работу, а вечером приходила с подарками для Толечки: то ползунки, то погремушки, то какое-нибудь особенное детское питание.
Вместе с Анной Николаевной жил её великовозрастный сын, но с ним, замкнутым и мрачным, Сгущёнкин практически не пересекался.
– Нужно тебя на работу устроить, – однажды вечером сказала Анна Николаевна.
И устроила-таки.
В агентстве, где она работала, человека без высшего образования могли взять только на должность технического специалиста по уборке помещений, проще говоря, уборщика.
Сгущёнкин, полный ответственности, вышел на работу. Он усердно драил полы с девяти утра и до двух часов дня. В перерыве Сгущёнкин спешил домой, накормить Толечку обедом. С пяти и до восьми, Сгущёнкин вновь брался за работу, а вечерами чувствовал себя одиноким и никчёмным. Несмотря на то, что на новой работе швабра первенства быстро перешла в его руки, Сгущёнкин чувствовал себя обмантутым – не к такому успеху он стремился…
Он часто вспоминал дом Ирины.
Воспоминания согревали его в новом неприветливом жилище.
В той же квартире, в параллельном пространстве, своим миром обитали Анна Николаевна с сыном. Анна Николаевна иногда проникала в мир Сгущёнкина, нянчила Толечку, но всегда возвращалась в свой мир, и миры эти не пересекались. Сгущёнкин даже не обращал внимания на то, чем занимаются хозяева квартиры, на то, что ужин у них затягивается глубоко за полночь.
Наступили выходные. Весь день Сгущёнкин провёл с Анной Николаевной. Он поделился с ней своей печалью: работа не приносила удовольствия – тоска и рутина.
– Ты достоин большего, – согласилась Анна Николаевна.
И она, как сведущий в душевных травмах специалист, набулькала Сгущёнкину лекарства.
Лекарство от душевной травмы не спасло, а только украло время. Сгущёнкин не знал, сколько часов прошло. Он открыл глаза и обнаружил себя раскорячившимся на кресле в прихожей с раскуроченным стареньким (ещё подаренным мамой) бумажником в одной руке и резной рюмкой в другой. Причём рука с рюмкой касалась пола и не чувствовалась – затекла.
В комнату вошла Анна Николаевна. Сгущёнкин, покряхтывая, попытался подняться, но понял, что ватное тело отказывается подчиниться.
Анна Николаевна взяла у него рюмашку, наполнила, и вручила Сгущёнкину, мол, надо, братец, надо.
На следующий день лечение продолжилось. Воскресенье переползло в понедельник и серой слизью слилось со вторником. Сгущёнкин перестал следить за временем. Он забыл про работу, и в общем-то не чувствовал, что что-то потерял.
Лечение продолжалось день за днём и принимало всё более и более опасные формы. Сгущёнкин стал ловить себя на полном отсутствии мыслей. Анна Николаевна уходила на работу, а вечером приходила с «лекарством». В выходные они забывались в алкогольном бреду.
В будни из тени дорогой мебели выходил сын Анны Николаевны. Он не скрывал своего презрения к Сгущёнкину и с аристократической демонстративностью не говорил с ним.
Они могли несколько часов кряду молча сидеть на кухне и, не чокаясь, пропускать рюмку за рюмкой.
А вечером приходила Анна Николаевна, привнося атмосферу мрачного торжества. Её сын с кухни уходил. На его лице отражалась брезгливость.
И Анна Николаевна принимала алкогольную эстаИногда она весело рассказывала о рабочем дне, и Сгущёнкин догадывался: раньше выпивка сопровождалась весёлыми застольями, и Анна Николаевна пыталась перетянуть к их со Сгущёнкиным столу былое веселье.
Чаще она устало махала рукой и пила молча, уставившись осиротевшими глазами в стену или в шкаф, и, видимо, раз за разом переживая поблёкшие воспоминания.
Иногда после работы Анна Николаевна брала на руки Толечку и сюсюкала с ним, как маленькая девочка с игрушечным пупсом. Лиза с непониманием и страхом смотрела на ослабевшего хозяина и призывно мяукала.
А когда за полночь Сгущёнкин и Анна Николаевна не могли отлипнуть от бутылки, она заходила на кухню и начинала орать и точить ногти о дорогую мебель.
Анна Николаевна кидала в неё семечками, или конфетами, т. к. подняться и прогнать кошку требовало слишком больших усилий.
Сгущёнкин в такие моменты смотрел на происходящее стеклянными глазами и улыбался. Казалось, он счастлив. Пьянел он быстро: одна-две рюмки – и его мягкое тело напоминало желе.