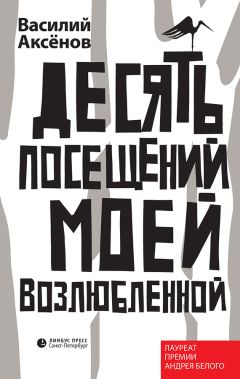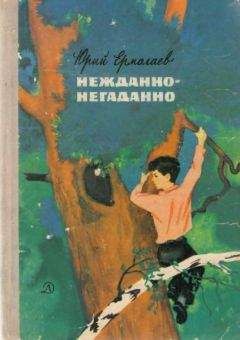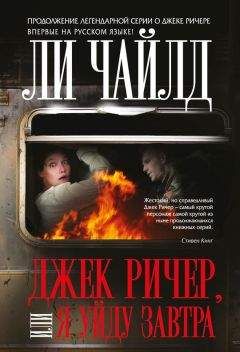Петя Шнякин - Записки из сабвея, или Главный Человек моей жизни
– Петь, давай сюда!
А на мне – синие «семейные» трусы из сатина… Правда, уже темнело, да и до подруги моей далековато, может, и не заметит этого позора. Я бросился в воду и мерными сажёнками поспешил к ней. Почуяв твердь под ногами, я тут же почуял и Наташку. Она сразу обняла меня. Я стянул с себя трусы, второпях потерял их в воде, поднырнув, снял трусики с неё, но нанизал их на правую руку, чтобы не повторить ошибки… Нащупал её мягкие, прохладные ягодицы и двумя руками притянул к себе, легко, словно пушинку… Наташка обхватила мою шею и поцеловала в мочку уха, а я сквозь холодок замутневшей от донного ила воды проник в её горячую плоть и, как Ихтиандр, начал блаженное действо. Даже сейчас, тридцать лет спустя, моё сердце учащённо бьётся, когда я вспоминаю эти яркие мгновения счастья… Вдруг слышу голос отца с лёгким мордовским акцентом:
– Петя, сынок, выходи, пойдём домой!
Смотрю, а он стоит с велосипедом рядом с моей одеждой и Наташкиным платьем:
– Петя, тебе говорю, домой пора.
Ну и тварь этот дядя Вася – Сэр, настучал отцу, падла. Если бы меня позвал кто-то другой, пусть даже заведующая аптекой, где я работал, или, хуже того, начальник Быковского отделения милиции, – я не вылез бы ни за что из воды, не кончив. Но трахаться на глазах родителя было чересчур. Я вернул подруге трусики и голышом поплыл к берегу. Отец подал мне брюки, помог надеть рубашку и ботинки, и мы, тихо толкая велосипед, двинулись к дому. Я оглянулся на пруд. Наташка всё ещё стояла на том месте, где десять минут назад мне было так хорошо.
– Сынок, ты что, совсем обалдел! Ты же сифилис от неё подцепишь! – приговаривал отец, сочувственно глядя на меня. – Ну нельзя так!
Не везло всё же мне с реальными блядями. Наташка вскоре загуляла с каким-то уркаганом, мы долго не виделись. Лишь однажды, остановившись с ней покурить у подъезда, я спросил: а почему ты не дала ещё на участке? Она ответила: дурачок, у меня месячные были. Точно, не везло…Куня
Хотя вру, с одной повезло. С Галкой Абузиной по прозвищу Мангуста – такая была приставучая, что только очень ленивый не познал её. Садясь на табуретку, она всегда специально оттопыривала свою круглую жопу. Мне давно хотелось её огулять, но она была подругой ГЧмже, поэтому одновременно трахать Ланку и Галку казалось мне опасным – могли друг на дружку Марине настучать. Решился я на это только после того, как у Ланки уехала крыша – мне уже привычно было иметь постоянную любовницу.
С Мангустой было хорошо. Тут-то и пригодились дурдомовские лекции «профессора» Берковского. «Ликалить» Галку мне нравилось, «пелотка» у неё была мясистая, или, по определению Коляна, «весёленькая», влагалище узкое и нежное. Кончала она только один раз за ночь, но при этом полностью теряла над собой контроль, дико кричала и царапалась или так сильно тянула меня за волосы, будто голову хотела оторвать. Кожа – бархатная, вот рожей немного не вышла и минет не умела делать как надо. Зато никогда не рожала, на теле не наблюдалось никаких складок, и даже когда ей было далеко за тридцать, небольшие груди всё ещё имели правильную, привлекательную форму. Я бы, наверно, влюбился в неё, если бы Маринка оставила хоть один кубический миллиметр пустого пространства в моём сердце.
Сравнения
Когда я жил с ГЧмже, мне всё время казалось, что по какой-то причине я недостоин её. Может быть, из-за моего «карандаша» – а об этом она часто мне напоминала, следуя, очевидно, своей любимой поговорке: «Если человека долго называть свиньёй, то он захрюкает». А может потому, что не было у меня приличных денег, к ним я, собственно, никогда не стремился. И, конечно, не имелось у меня машины, как у многих моих друзей и бывших её любовников. Машину я водить не научился, да и не хотел. А тем более не испытывал желания лежать под «консервной банкой» с набором ключей – грязным, в мазуте, масле и ещё в чём-то по локти, а то и ниже, и калечить руки о металлическую начинку средства передвижения.
Это сейчас я понял, что если мне и нужны деньги, то очень большие. А машина должна быть не просто машиной, а с шофёром.
Я не хвастаюсь, но должен заметить, что у меня была куча других достоинств, которые, на мой взгляд, могли перекрыть эти три существенных недостатка. У меня было высшее медицинское образование, я неплохо знал английский – учился пару лет в Мориса Тореза, был экспертом по охотничьим лайкам, хорошо пел, играл на трёх музыкальных инструментах – аккордеоне, фортепьяно и гитаре. Писал стихи – их даже публиковали в Раменской газете «За коммунистический труд», сочинял песни под гитару и участвовал в бардовских конкурсах – не побеждал, но проходил по несколько туров.
И всё же мне казалось, что я обязан сделать что-то необычное для Главного Человека моей жизни. И я решил: мы должны уехать в Америку!
* * *Я лежу на больничной кровати. Она, вроде, и удобная – ноги можно приподнять и голову. Только кнопочки на пульте нажимай. Телевизор на шарнирах рядом. К себе подтянуть всегда можно. И три канала русских. Два – ОРТ и «Россия», а третий – музыкальный. По нему Марина Хлебникова напевала свой хит про кофе.
Вспомнил, как написал песню своей Маринке, за четыре года до отъезда, назвал её «Воспоминания о будущем»:
Я налил в губастый под обрез
Первача второго перегона:
Пей, жена, за будущий отъезд!
Там уже не выпьешь самогона.
И не надо впредь решать вопрос,
Как тому герою у Шекспира, —
Почтальон сегодня нам принёс
Два уведомленья из ОВИРа.
Разрешили нам туда лететь,
А что будет дальше – я не знаю…
Пей, жена, не бойся захмелеть,
Ничего, сегодня мы гуляем.
Америка?
Чтобы сдать анкеты и пройти интервью в посольстве США, мы с Мариной летом 1988 года целый месяц в очереди отмечались. Три раза в неделю: понедельник, среда и пятница. Списком из ста человек владел Павел Абрамович, пожилой еврей, явно с коммунистическим прошлым. «Сотник», не приди мы хоть раз на перекличку, мог бы запросто зачеркнуть фамилию Шнякин и всё наше будущее.
В этот список нами был внесён и друган из дурдома – бывший биолог Коля Берковский, в тот момент шивший куртки из варёной джинсы на дому у своей жены Ульяны. Этот полулегальный бизнес шёл, видимо, неплохо, так что сильного стремления свалить я у Коляна не замечал. К тому же он с детства учил французский, а по-английски говорить не умел. А Ульяну при одном лишь слове «Америка» начинало колотить, она то визжала, то рыдала, ехать никуда не хотела, видать, у неё большая кубышка с золотом где-то была зарыта.
Я сожалел, что пропадает место, за которое мы бились целый месяц, а тут на последней поверке подходит молодой парнишка к Павлу Абрамычу и интересуется: а где же моя фамилия – Гинзбург? Старый коммунист резко ответил, что Гинзбург на прошлой неделе не отмечался и из очереди исключён.
Мне стало жалко парня. Я потихоньку отвёл буквоеда в сторонку и сказал: «Павел Абрамович, вот вы еврей, и Гинзбург тоже, а помочь не хотите! Я хоть сам и мордвин, а его выручить хочу – включите Гинзбурга вместо Берковского, он сегодня не придёт на перекличку». Абрамыч внимательно посмотрел на меня, что-то ёкнуло в его сердце, и он снова вписал фамилию молодого просителя в заветный листочек. Парнишка обрадовался, дал номер своего телефона и пригласил в гости, видак посмотреть. Но подружиться с ним не получилось, я так ему и не позвонил.
America!!!
Раздобыв информацию о поправке Джэксона – Вэника и ознакомившись со всеми нюансами этого важного для иммигрантов документа, я решил всё делать по-еврейски, но на мордовский лад.
По отцу я мордвин, а мать была русская, и в паспорте меня записали русским. Для начала я решил поменять национальность, правда, был уверен, что ответственные лица на это не пойдут. Таков был мой гениальный план.
С диктофоном в маленькой матерчатой сумке я осаждал загсы и отделения милиции, требуя изменить пятую графу в моей краснокожей книжице, поскольку национальность я получил при переписи населения в 1959 году, когда мне исполнилось всего девять лет.
Я хотел снова стать мордвином, но, как и предполагал, никто не желал помочь мне – лишь гоняли туда-сюда. Все разговоры с бюрократами были записаны на плёнку, что, по моим прикидкам, должно было повлиять на решение Министерства юстиции позволить нашей семье въезд в США.
Пытаясь доказать, что русское большинство угнетает малочисленную мордву, я ходил по книжным магазинам, где добывал справки о том, что у них нет русско-мокшанских словарей, и поэтому я не имею возможности изучать дорогой моему сердцу мордовский язык. Однако, несмотря на все усилия, национальность мне так и не поменяли, да и словарей таких не было до самого моего отъезда.
Но почти через четыре года – в декабре девяносто первого, на последнем собеседовании в посольстве США – нам дали статус «пароль» – не по факту преследования, а в «общественных интересах». Что это за интересы, я до сих пор не понял. Может, потому мы в Штатах понадобились, что я был провизором, Маринка – поваром, тоже специальность нужная. Дети – Яша с Пашей – уже без пяти минут взрослые, глядишь, потом в армию пошли бы служить.