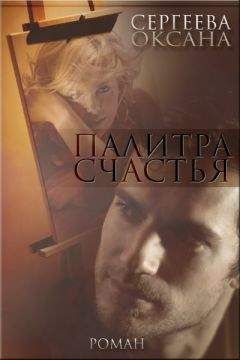Захар Прилепин - Обитель
Неприязненно подняв носки, перетряс их, постучал ими об стену, вывернул наизнанку и обратно, и всё-таки надел – пол был каменный.
…Рубаха и кофта пришлись кстати: чистая одежда – в этом что-то есть… человеческое.
Вытряхнул пиджак и не без труда влез в него, придерживая пальцами рукава кофты, чтоб не сползали.
Завернул газету со своим шмотьём и снова выглянул.
Галя уже была одна.
Она слабо и с непонятной ещё надеждой улыбнулась Артёму, немного, как от близорукости, щурясь и скользя по нему глазами, словно опасаясь, что если задержаться хоть на чём-то взглядом – откроется что-то трудное, неприятное и больное.
– Пойдём… – шёпотом позвала она.
– Я вот – босой, – сказал он, постаравшись улыбнуться.
Она озадаченно оглядела его ноги.
– Найдётся обувь, – так же тихо сказала она.
Галя и Артём – она впереди, он, хромая, следом – прошли в гримёрку – ту самую, где он когда-то был со Шлабуковским и Эйхманисом… У входа в гримёрку стоял дежурный – видимо, исполнял приказ Галины не запускать туда актёров и музыкантов.
– Спасибо, – сказала Галина сухо.
Дежурный не ответил, что Артёму показалось диковатым.
На столе стояла бутыль молока и целое блюдо пирожков.
Пока Галя закрывала дверь, он уже оказался там, где пахло луком, яйцами, капустой…
Кажется, он помнил о том, что лучше бы есть медленней, но получилось так, что он жрал, не прожёвывая, – и заливал всё это молоком.
Пока прожёвывал один пирожок, второй держал в руке и косился на блюдо: как бы они не разбежались.
Молоко было тепловатым.
Когда подошла Галя, Артём вдруг догадался, отчего собаки, которым вывалили мяса, рычат даже на хозяев – он поймал себя именно на побуждении зарычать, толкнуть чужого; просто было некогда.
Артём так и не почувствовал, что утолил голод. Он только увидел, что пирожков больше нет и бутыль пуста.
Он снова постарался улыбнуться Гале – снова не очень получилось.
– Одичал там, – сказала она негромко и грустно и посмотрела на него чуть дольше.
Артём облизнулся, вроде как пожал плечами – и безошибочно нашёл ту часть стены, что была особенно тепла – видимо, где-то с той стороны стены имелась печь.
Он уселся прямо на пол и прижался спиной к почти ещё горячей поверхности.
– Ещё минута, и я стану живой, – пообещал он, отчего-то не в силах поднять глаз на Галю и глядя ей на колени и живот; и добавил слово, которое вообще не очень любил и никогда не говорил. – Прости.
Галя была в коротком осеннем пальто и длинной серой юбке, с несколькими грязными каплями на подоле, руки держала в карманах.
– Тебя там били? Что с тобой? – спросила она тихо и присела рядом на корточки; это её движение – аккуратное и по-женски выверенное, очень красивое, вдруг сделавшее очень зримыми, хоть и оставшимися под юбкой, её колени, линию бедра, – оно, если и не вернуло Артёму ощущение возможности какой-то иной, мирной, не обещающей боли телесной жизни, то хотя бы напомнило о её существовании.
Он поднял руку и пальцами, непослушными и растопыренными, как грабли, коснулся её колена.
Галя быстро посмотрела на дверь: закрыла ли? – хотя именно этим очень добросовестно занималась меньше минуты назад.
Артём убрал руку, таким же медленным движением: пронёс сквозь тёплый воздух свои пальцы, как лапу животного.
– Я не могу тебя больше к себе в кабинет привести, – сказала Галя. – У меня и кабинета нет.
– Как? – не понял Артём.
Она быстро куснула себя за нижнюю губу и наконец позволила себе совсем долгий взгляд – глаза в глаза Артёму.
– Ты любишь меня? – спросила она.
Артём был не в состоянии сейчас осмыслить всё то, что стояло за этим вопросом, что предшествовало ему и что могло за ним последовать. Отвечать на него – после непрестанного полуобморочного холода, после колокольчика и сватовской улыбки полоумного чекиста, после кулёшика и голубиных рук подростка, после Афанасьева с оторванным чубом и Гракова, подвывающего на печке, после утреннего, поломанного и кривого тела владычки, его незакрывшегося глаза, после самого сна – заваленного мужиками, их смрадом, их пятками и хилыми задами, их костлявыми спинами и острыми коленями, после кислой, предназначенной не для кормления, а для умерщвления всего человеческого баландой, после воплей “Я пробовал человечину!” и “Я снасиловал сестру!”, после святого, который осыпался известковой пылью, после того, как Артёма убивали и случайно не добили несколько часов назад, – отвечать на вопрос было нечем: не находилось в языке такого слова.
Артём не в силах был даже моргнуть в ответ.
– Ты приезжала на Секирку? – спросил он.
– Да, – с жаром ответила она. – Я была… Я сначала вообще не знала, где ты, и не могла никак узнать… Потом приехала, а там эта хамская свинья…
– С колокольчиком?
– С чем?.. А, да, у него колокольчик на столе, зам. начальника отделения Санников… Пришлось вернуться сюда, и…
– А я знал это. Что ты приезжала… И что меня возьмут в духовой оркестр.
– Откуда? Тебе сказал кто-то?
– Нет, никто… не сказал. Почему у тебя нет своего кабинета?
– Не важно, – сказала она. – Потом. Мне надо уезжать отсюда, понимаешь? – Она помолчала. – Позвонил Фёдор, – объяснила Галина. – И предупредил, что будет проверка… и на меня есть… документы и доносы. Мне тут нельзя быть. Я и сама это знаю. Может закончиться всё очень плохо. Что меня… не знаю… переведут из отдела в женбарак. Чёрт.
Артём, блаженно прикипая спиной к стенке, спросил, совсем не обижаясь – зачем обижаться, когда так тепло и молока напился:
– Ты меня привезла попрощаться, Галя?
– Мы можем убежать, – сказала она твёрдо и с той бездумной остервенелостью, которая заменяет женщинам решительность. – Только надо сейчас же. В ноябре будет поздно – холода придут. Ты… в силах? Иначе тебя убьют здесь, Тёма.
– Да, – ответил он, имея в виду, что – убьют.
Выбирать ему было не из чего.
– У тебя что, зуб болел? – спросил он, и если б руки его не были столь искривлены – он бы погладил её по щеке.
Она провела двумя пальцами от скулы до своего красиво вырезанного подбородка.
– Заметно? – спросила.
Она была огорчена, что заметно.
– Нет, – честно сказал Артём.
* * *Галя велела идти ему в больничку, чтоб его осмотрел доктор Али, пообещала договориться.
Она ушла первой, Артём ещё минут пятнадцать сидел у стены в гримёрке – появились артисты и музыканты, ходили вперёд-назад, на нового человека посматривали, но кто такой не спрашивали.
Ему было всё равно.
Артём вдруг ощутил себя псом, которого допустили к людям – но никто не знает, что у него не уме. Вот прошуршали мимо юбкой. Вот зашёл кто-то в калошах, наследил, голос неприятный – может, укусить?
Кажется, задремал.
…Вовремя очнулся, с кряхтеньем поднялся, пошёл к больничке – снова заметил, что во дворе стало куда меньше людей, чем в прежние времена, – новый начлагеря по новому мёл.
Гали уже не было, но с бородой доктора Али столкнулся у самого входа – тот по описанию определил своими вишнёвыми глазами, что это к нему.
Быстро осмотрел Артёма, трогая его очень сильными и очень большими пальцами, сразу же заключил со своим характерным акцентом:
– Переломов нет, положить не могу, иначе меня накажут. Но одну ночь отлежаться дам. И поешь, сколько хочешь.
Настроен он был по-доброму и, похоже, говорил правду.
Артёму выдали чьи-то старые сапоги. Накормили в кухне лазарета, одного – на этот раз неспешно и упрямо он съел четыре порции пшёнки, целую гору заплесневелых объедков хлеба – отирая плесень рукавом, и выпил кружек двенадцать кипятка.
Наконец согрелся, но никак не мог довериться этому чувству – и хотя сидел на прогретой кухне в тёплой кофте и в пиджаке, озноб нет-нет да и проползал вдруг то от поясницы к шее, словно кто-то проводил холодным языком по позвонкам, то тем же языком лизали от пупка до подмышки, через левую грудь, а ещё неожиданно начинали мёрзнуть ноги и в паху леденело.
– Пшёнки больше нет, – сказал забежавший на кухню доктор Али. – Мыться пойдёшь?
Артём всмотрелся в его смуглое, губастое лицо – большие белки глаз, мясистые уши – этот человек замечательно умел быть и дурным, и хорошим, и борода была то страшная, то добрая.
Артём поднялся – и его повело вбок.
– Поспать надо, – с несколько деланной заботливостью сказал доктор Али, Артём сразу вспомнил владычкино “Какой я хороший поп!”. – Я дам место после душа. Или ещё поешь, а потом спать? Треска осталась.
– Ещё поем, – сказал Артём. После каждого слова рот его слипался, и приходилось делать усилие, чтоб его раскрыть.
…Одежду он снимал с некоторым сожалением и опаской: а ну как оставишь – и унесут? Кофта же.
Придерживаясь за сырые стены, встал под первый же дуршлаг, врубил воду, на него полил почти кипяток – но он, выругавшись, стерпел и остался стоять, чувствуя, как славно быть обваренным, ошпаренным, с облезшей кожей, с лопнувшими в кипятке глазами… больное колено саднило – Артём нарочно подставлял его под воду… медленно скоблил себя пальцами, сморкался, лез себе в уши, одно сильно ёкало, когда к нему прикасался, но он всё равно лез… мочился, не трудясь помочь себе рукой или убрать ногу, на которую попадало… набирал полный рот горячей воды и, не в силах плюнуть, так и стоял с раззявленной пастью, а из неё текло…