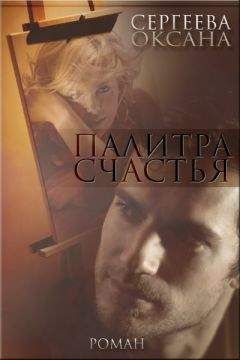Захар Прилепин - Обитель
Самой чёрной ночью над спящими раздался огромный колокольный звон – один удар и долгий, на много вёрст, гул.
Дул тяжёлый ветер, с почти равномерными замахами – словно кто-то подметал Соловки.
Человеческий штабель так слежался, что никто не поднялся и даже не смог перекреститься, хотя каждый знал: колокольня пуста, и нет там ни звонаря, ни колокола, и взяться им неоткуда – потому что лестница наверх завалена и забита.
Утром все вставали тихие, с лицами запаренными и чуть помятыми, но глазами чистыми, полными влаги, – как бывает после бани.
Никто не спешил к своим нарам, все так и стояли посреди церкви, глядя вверх, словно ночной гул ещё не кончился.
– Россия – приход Иисуса, – сказал за всех батюшка Зиновий; указав рукою вверх, добавил, – там маяк. Свечечку Бог засветил нарочно над нашей головой, чтоб лучше видеть. Одна беда – мы дрыхнем, а только бодрствовать нам надо, ибо никто не знает, когда придёт Сын Человеческий! Слышь, владычка?
Владычку угораздило лечь в последнюю ночную пересменку на самый нижний ряд.
Поверх оставалось ещё три слоя – пока разгребли чужие ноги и руки, стало ясно, что владычки уже нет – задушился.
Тело у него стало тонким, надломанным, смешным, как у подростка. Веснушки на руках позеленели.
Один глаз он закрыл, а вторым присматривал – и взгляд его был неутешителен и скуп.
Артём присел, погладил владычку по голове. Волос оказался жёсткий, грязный, неживой – как старую варежку приласкал.
Он понюхал свою руку в надежде услышать знакомый запах сушёных яблок, но тут же увидел ползущего по ладони клопа: с мертвеца перепрыгнул.
Поспешил к своим нарам, уже зная, чем займётся, – в один рывок наверх – вытащил ложку и за несколько взмахов исполосовал на части лицо своему князю, помешав нескольким лагерникам, которые в эту минуту молились святому.
…Глаза поддавались хуже всего – и Артём выдолбил их острым концом ложки.
Уши стесал по одному. Губы стёр. Волосы повыдирал клок за клоком.
Над телом князя, на широких его плечах больше не было головы: хоть подставляй любую, как в фотографии на Мясницкой улице.
Работал быстро, ярясь и скалясь.
– Бог ты мой… – выдохнул кто-то из стоявших внизу. – Креста на нём нет…
Взвизгнув, схватил и потянул Артёма за подштанники батюшка Зиновий.
– Они… они лежат под извёсткой, как трава и ягода под снегом… хранятся и ждут… ждут своего часа… как же тебе пришло в голову твою, поганец, раскопать их… и уродовать?.. как же?..
Безо всякого усилия Артём сбросил его слабую старческую руку, но на помощь священнику пришло сразу несколько других рук, торопливых и жадных. Ухватиться Артёму было не за что – неожиданно для себя самого он повалился спиной назад, это казалось ему почти смешным – он не боялся никого из лагерников и чувствовал себя сильнее любого из них в отдельности, что они могли ему сделать?..
…но для начала Артёма просто не стали ловить – сковырнув его с нар, все вдруг, не сговариваясь, отстранились, и он с хрястом в рёбрах и красными брызгами внутри черепной коробки грохнулся на бок, прямо об каменный пол, не успев собраться… одновременно почувствовал звонкий ожог в колене, оказавшемся связанным с мозгом доброй сотней стремительных телеграфных линий, пробивших острую брешь в сознании: ужас, ужас, ужас, шлём срочную молнию, сто молний – тут боль, болит, больно!
Но этого всем показалось мало, одна рука вцепилась Артёму в ухо, другая в бок, чей-то мосластый кулак тыкал, примериваясь, в бровь… он попытался встать, но его вдавили назад, пнули в грудь, наступили на живот – только обилие слабых и промёрзших до неловкости и зябкой суетности людей мешало немедленно разорвать его на части.
Напуганный Граков вновь залез на печку, взвыл оттуда, пряча глаза в ладонях.
– …Нераскаянный!.. – вскрикивал Зиновий. – Гниёшь заживо… Злосмрадие в тебе – душа гниёт!.. Маловер, и вор, и плут, и охальник – выплюну тебя… ни рыба ни мясо – выплюну!
“…Выплюнешь, ага, – успел подумать Артём, точно понимающий, что его сейчас убьют, хотя от этого ему не становилось менее забавно и смешно, – а рыбу и мясо не выплюнул бы, сжевал бы…”
Исхитрившись, Артём, вывернулся и лёг лицом вниз, постаравшись прикрыть башку руками – его толкали, клевали, долбили, топтали, месили, щипали, тёрли, трепали, кромсали, кусали, надрывали, растаскивали по куску…
– Владычка! – позвал он плачущим, но чуть дурачащимся голосом – ему стыдно было кричать всерьёз. – Убивают!
Владычка смотрел своим глазом и не шевелился.
– Эй! – раздался уверенный голос. – Хватит, эй, русские!.. Что творишь? – это был Хасаев.
Артём ощутил, что терзающих его рук стало меньше, но Хасаев всё равно не справлялся – он крикнул дежурных, но те, кажется, не поспешили на помощь.
Зато в толпу влез беспризорник и, не забывая кричать то “Ам, кулёшика!”, то “Куада, а мне?” – вцепился уродливой своей рукой – ладно бы пятью – четырьмя пальцами – Артёму в едва отросшие волосы, соскабливая кожу с его головы под свои грязные ногти, – как будто Артём и был этим, наконец обнаружившимся, кулёшиком, который нужно было поделить.
Кричали так, словно все расползшиеся вчера гадкие грехи сползлись в Артёма и заселились в нём, – а значит, могли вернуться к любому из его соседей: кому в ухо юркнуть, кому зарыться в пупок, кому в ноздрю нырнуть.
…Этого нельзя было допустить – чистоту души надо стеречь и охранять…
“А ведь правда забьют!” – ещё раз, всё с тем же почти даже смешливым чувством, понял Артём.
Только сердце прыгало внутри его, как отдельное, живое и несогласное: тебя, может, и убьют, а меня? меня за что? пусть тебя бьют, а меня выпусти!..
Не хватало лишь одного сильного удара куда-нибудь в темя, чтоб жизнь отцепилась наконец и понеслась – теряя на лету последние перья, со слезящимися глазами, с лёгкими, полными нового воздуха.
Ангел Артёма сидел на его нарах, пересыпал наскобленную извёстку из ладони в ладонь, как дитя в песочнице.
– Шакалы, мать вашу, по местам! – заорали красноармейцы. – Быстро, бля, шакалы!
Кому-то угодило в спину прикладом, кому-то в пузо сапогом.
Артёма оставили вмиг – он лежал один, так и держа руки на голове, прилипшие к вискам и затылку, оттого что всё было в крови.
– Куда спешим? – спросил чекист в своей кожанке, оставшийся стоять у входа со своим колокольчиком – верно, побоялся его поранить и разбить в сутолоке. – Разве мы плохо вас лишаем живота? Думаете, мы сами не успеем, если вы не поможете, граждане?.. В конце концов, есть какой-то порядок, очередь – зачем толпиться?
Голос его снова выдавал хмельную и оползающую улыбку – белое с пюсовым – на лице.
– Они тут богу молились! – вдруг громко пожаловался беспалый беспризорник.
Чекист перевёл взгляд на Зиновия.
– Зиновий, пёс волосатый, надумал отречься?
– От Антихриста, – сказал, как плюнул, батюшка.
– Ну, жди, пока мы твою паству доедим, – согласился чекист.
– Я ещё посмеюся вашей погибели, – вдруг ответил батюшка Зиновий громко и уверенно.
Чекисту, впрочем, не было интереса продолжать разговор – достав бумагу из кармана и расправив её в воздухе, он спросил:
– Горя… И! Нов… Артём!.. который тут?
* * *Батюшка Зиновий полз за Артёмом вслед, пока его вели:
– Прости меня, сыночка мой! Прости!
Артём оглянулся растерянно: о чём это он? Чего хочет?
Всё разом перестало быть забавным.
Мир приостановился, сознание обратилось в холодец, сердце с бешеной силой погнало кровь в голову, свежие ссадины закровоточили ещё жарче и обильней. Спина покрылась холодным потом. Ещё пот немедленно обнаружился меж пальцев ног и рук, под подбородком, в паху – Артёма словно извлекли из ледяного подвала – к столу.
“А если простить? – ещё раз оглянулся Артём на отца Зиновия. – Что-то изменится?.. Меня не дали убить здесь, чтобы что?.. застрелить – там?”
Со скрежетом закрыли дверь за спиною, в лицо пахнуло свежим ветром с моря, еловым запахом, вскопанной землей, чего-то недоставало в мире… но это отсутствие не означало погибели… и напротив, напротив – таило в себе невиданную, нежданную, снизошедшую надежду.
Артём поискал глазами – что изменилось, что?
Надо было срочно, пока не поздно, найти, что изменилось.
Света было очень много – он давно не видел дня, но при чём тут свет.
Секирная гора стояла на месте, небо двигалось над лесами и озёрами, чёрный пёс вертелся у конуры, то и дело взбадривая позвя… – Артём выдохнул – …кивающую цепь.
– А колокольчик? – тихо спросил он. – Где мой колокольчик?
Чекист оглянулся на него и толкнул шагавшего рядом красноармейца:
– Ты смотри, какая цаца! Подай ему выход с музыкой!
Они захохотали весело, как собачья стая. Нестерпимо воняло сивухой и табаком.
Артёму указали на телегу и, равнодушные к его последующей судьбе, сразу обрадовали:
– В монастырь поедешь, закончилась твоя командировочка, извини, не доглядели. Документы у сопровождающего.