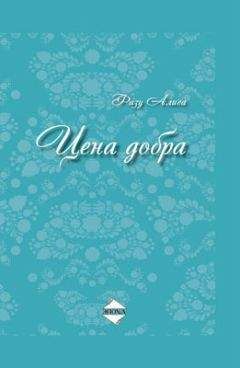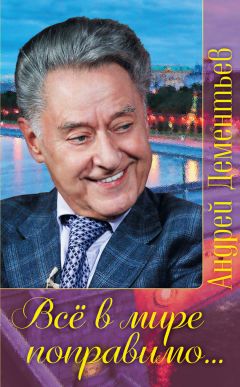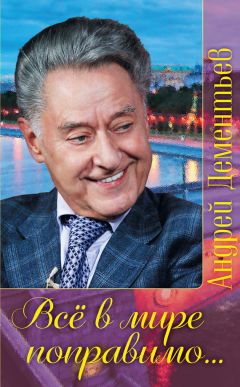Мария Голованивская - Нора Баржес
Он напился, сначала средне, потом очень, потом страшно.
Он плакался им по очереди, откровенничал, материл российских казнокрадов, людей – сплошь тупиц, друзей – сплошь попрошаек – и, наконец, ее, вымотавшую душу, связавшую своим страданием, бесчувственную, вымороченную, пренебрегающую и, главное, неблагодарную.
Его привели домой. Она дала за это денег. Раздела, доволокла до кровати, поставила рядом на тумбочке стакан с водой. Все это молча, впрочем, как обычно, молча.
Он что-то мычал про чайку, про бессмысленность повторения пройденного, но она никак не реагировала, спокойно, холодно, профессионально исполнила выверенные движения с пуговицами, молниями, шнурками, как ассистент патологоанатома, как еврейская жена с пьяным русским мужем.
Она очень намучилась в этот день. Темные мысли под смуглой кожей. Она звонила Риточке и то не могла дозвониться, то та не могла разговаривать, потом она слышала звон ее голоса, переливы ее смеха, заверения, что та скучает, изящные зарисовки ситуаций – пейзажи, портреты, что пронеслись мимо нее или сквозь нее за этот день.
Она, как всегда, долго лежала под пледом на диване в гостиной, куда и пошла сейчас спать, очень много курила. Звонила маме, опять почти плакала от беспомощности и жалости к родителям. Мельком, вскользь говорила с дочерью, как всегда, задав ей слишком много неудобных вопросов. Но главное, конечно – чтение: она обожала книги, она упивалась ими, в этот день она проглотила с потрохами прекрасное повествование о некоем пианисте, приехавшем на концерт, который он не помнил, как назначил, и с ним стало приключаться разное необъяснимое, яркое, не-его. К вечеру она хрустнула корешком, проглотила окончательно, облизнулась и заурчала бы надолго, если бы не вспомнила о так заурядно загулявшем муже и дурацкой жизни последних месяцев, которую совсем не понимала, за что очень винилась и перед собой, и перед «всеми близкими».
Не понимала и только поэтому была влюблена, ведь обычно понимала все и досконально. Она не хотела понимать, а хотела, как эти дуры вокруг, просто чувствовать, так сказать – пребывать. То, чего не чувствовала обычно: свет и тень, легкость и тяжесть, облечение и боль. У нее появилась возможность из каждой приведенной пары выбирать первое, а не второе, что само по себе было уже признаком мутации: разве не ее бабушку сожгли в Бабьем Яре, разве не ее деда расстреляли, разве не ее отцу не давали заслуженных должностей и почета, отчего он так рано растерял силу? Разве не ее дразнили во дворе жидовкой, оттирали от игр, несправедливо засуживали? Какая легкость и свечение могут рождаться в душе среди эти грубиянов, хамов, недалеких умом, неопрятных баб и мужиков, которых возможно после всего содеянного только презирать и, презирая, использовать? Обирать, обманывать, насыпая им за пазуху для утоления бдительности обыкновенной трехрублевой лести или пятикопеечного якобы уважения и интереса к их персонам.
Она мутировала, Норочка в норочке, она мутировала после того, как в нее проникли секунды риточкиного смеха, атомы рыжих кудряшек, префиксы и аффиксы воздушных реплик и микропиксели таких же рыжих, как и волосы, риточкиных глаз.
Она чувствовала, что имеет право на свет и легкость, она знала, что они, «эти близкие», обязаны это стерпеть в обмен на ее многотерпение и многострадание. Да она, Норочка, была лучшим, что получил нахаляву этот неотесанный торговец чужими озарениями, эта дешевая дешевка, эта человеческая фикция, незаметная на фоне таких нехитрых биологических феноменов.
Он храпел за стеной.
Она не могла спать.
Она курила.
Он, не просыпаясь, пил воду.
Она приняла снотворное и, когда он около восьми утра отправился на кухню опустошать холодильник, почувствовала первые волны сна.
Так было тысячу раз: она засыпала под утро со снотворным под его шарканье и шварканье.
Последнее, о чем она подумала перед тем, как уснуть тяжелым, неправильным сном, были деньги, точнее – их отсутствие. Она, по сути, нищая, на новые кожи у нее есть только унизительно добытые десять тысяч, а что будет, если она расстанется с Павлом – и подумать страшно.
Он, конечно, не даст мне ничего, если я уйду от него, и я, как всегда, буду должна побираться, ведь на жалование реставратора нельзя даже снять приличную квартиру…
Она собралась привычно взрыднуть, но таблетка взяла свое, и она провалилась в черноту, знакомую и изведанную, неприятную и мучительную.
Ее взаимоотношения с деньгами были противоречивы. Она жила не по правилам, предписанным для их получения, она не ведала множества способов приобретения их. С одной стороны, между ней и миром пролегало искусство, сценарии взаимоотношений, чопорные, неповоротливые менуэты, не предполагающие соприкосновений. Она годами общалась с людьми, демонстрируя вялую повадку к сближению, могла не преступать, воздерживаться порой даже от необходимого, хотя и отличаясь при этом живым умом и даже временами искрометным остроумием.
Она была неловка, много, часто, излишне подробно извинялась и чаще вызывала этой манерой обожание и восхищение, нежели равнодушие и ответную вялость. Ее или почитали, или ненавидели. Ее устраивала такая человеческая атмосфера вокруг, потому что именно такими были настоящие героини тех многостраничных томов, которые она поглощала регулярно и без которых не мыслила себя. Великие женщины из великих томов проводили внутри нее ежедневную перекличку, раскачивались на качелях ее нервных волокон, перемигивались и подкалывали друг друга.
Но все-таки на других качелях раскачивалась она сама, обожая деньги, грезя о них. Она хотела богатства и знала бы, что с ним делать и как в нем жить. Она почувствовала в себе первый росток этого греха – а она ощутила грубую фактуру подобного удовольствия именно как грех – когда впервые купила себе баснословно дорогие сапоги. Замшевые, черные, выше колена. Делающие ее откровенно обольстительной. Она запомнила это удовольствие, сформулировав происшедшее как «нашалила», и продолжила дальше, шокируя безумным размахом покупок и себя, и других.
Платья, блузки, часы, бриллианты. Сумки – дюжинами за год, равно как и сапоги, туфли, жакеты. Для этих ее кож в доме была специальная комната, туда относилось то, что больше не жгло, что слишком пропиталось запахом ее темной кожи или уже выстрелило пару раз в невинную жертву, которую она и не думала превращать в собственную добычу. Раздавала не глядя. Несносное притяжение, которое вещь источала своей красотой и дороговизной, выветривалось со скоростью чайного аромата. Она потом почти не помнила подробностей ни покупки, ни расставания, не помнила сумм, не помнила, чем жертвовала ради обладания вещью.
Между ним и миром пролегали деньги. Торчали рыбьим хребтом, остовом из каждого его действия, слова, логического построения.
Он нанизывал события на белесые ребра алгоритма их извлечения из всего – боли, раскаяния, бахвальства, любви, вины, глупости. Обнаруживая эту или подобную сущность рядом с собой. Он метал ее, как серсо, и ловко подставлял ладони под проливающийся вследствие меткого броска золотой дождь.
В этом таланте он был пошл и трогателен. В использовании денег он был трогателен и не пошл. Куда-то вкладывал, где-то играл, нес в дом, вкладывал в дело. Он никогда из-за Норы не покупал искусства в дом, боясь быть осмеянным, но часто и подолгу втайне от всех носил в себе какое-нибудь впечатление, даже особо не зная, к чему его применить.
Через день приехал Кремер. Без звонка пришел к ним, открыла Нора, и они сидели и пили чай, как ни в чем не бывало. Кремер чудил, носил вещи наизнанку, потому что якобы натирал свитером подмышки. Они надолго уходили с Павлом, говорили за пивом о Боге, мужской дружбе, мужской любви, которую никакая женщина не может понять. Паша сначала брезговал темой, но потом втянулся в разговор и рассказал о Норе. Напускное, – заключил Кремер, внимательно выслушав его рассказ, – фантазирует от тоски. Может, ты плохо ее любишь, а, Пашка?
Петр Кремер был некрасив, отчего сделался со временем еще более талантлив. Его талант был цветком, на который он привлекал женщин. Он прятался за ним, отгораживался от их пристального разглядывания, он им пах, для того, чтобы женские взгляды скользили прочь от крупных бородавок на лице, дряблой кожи, редких и крупных зубов. Он засматривался на Пашу, его благородный лоб, откинутые назад светлые волосы, мужественный подбородок. Он не понимал, почему тот так страдает и не может завести себе другую женщину, чтобы просто выровнять душу, ведь он сам, Кремер, никогда из-за своей некрасивости не порабощал женщину, подозревая в ней извечную готовность к измене. Он жестоко ошибался, его любили по-настоящему, тайно рожали от него детей, из-за него лились слезы и исписывались дневники, но он продолжал оценивать себя только с внешней стороны, как он оценивал пейзаж или натюрморт, решительно пренебрегая тем, что дорого женщине, тем, что было у него в избытке и практически отсутствовало в Паше – силой духа.