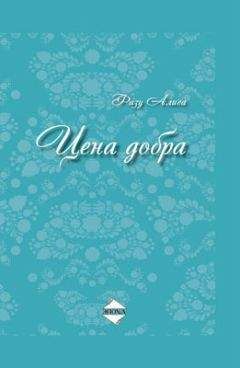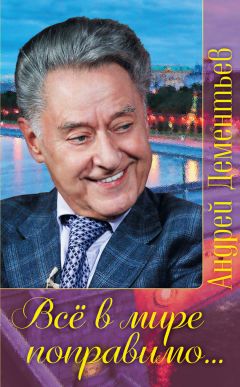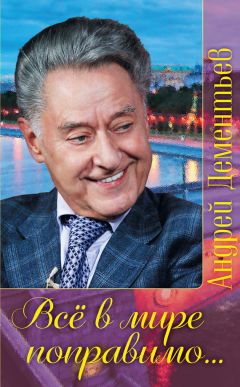Мария Голованивская - Нора Баржес

Обзор книги Мария Голованивская - Нора Баржес
Мария Голованивская
Нора Баржес
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес
Ты меня больше не возбуждаешь.
Врешь.
Она встала, провела рукой по своим каштановым коротко стриженым волосам (под мальчика, опять подумал он), подошла к окну, закурила.
Ты опять куришь?
Я не понимаю, почему тебя это вообще так волнует. Меня, например, не волнует, что мне не о чем с тобой говорить.
Он почувствовал холод. Она – теплую волну, которую всегда вызывало в ней собственное раздражение.
Мы опаздываем, – бросил он.
Да, мы опаздываем, я вижу. Сейчас закончу с чемоданами, – бросила она.
Оба броска никуда не попали.
Он приготовился ждать и не нервничать.
Она – собираться, забывать, доходить до исступления и изнеможения. Вспоминать, расстегивать, возвращаться. Плакать от бессилия, глубоко затягиваясь.
Через четыре часа – самолет в Другой Город. Так у них принято – лететь в Другой Город раз в году на новогодние распродажи. На неделю вокруг нового года. Она обожала. Он терпел. Как бы из экономии. Так ему было легче ездить в эти ледяные путешествия. Точнее, в строгие. Точнее, на обычные между ними соревнования в равнодушии. По ее невысказанной мысли – шифрующие глубину отношений, надлежащее воспитание чувств, отношение подлинное, а не показное.
Он, конечно, посчитал. Как всегда, очень дорого. Этот город такой же дорогой, как и она, такой же промозгло-холодный, однообразный, формализованный. Но он любил Другой Город. Как и ее. Точнее, особенно уважал. По-одесски, с акцентом, с особенным причмоком, выражающим восхищение. Уважал до комплексов, как и положено качественному самцу, проложившему свою тропу в этих джунглях из человеческого мусора, обломков пирамид и мавзолеев, с начертанными на их шершавых стенах законами, понятиями и правилами.
Другой Город лечит.
Ветер продувает мысли, скудость и однообразие возбуждают чувства, включают воображение. А изысканность и аристократизм щекочут нервы. Таким он был, этот Другой Город.
Именно в Другом Городе она отдавалась ему лучше всего. Когда примеряла новые кожи и крутилась перед зеркалом. Он брал ее одним махом в коридоре их крошечной квартирки на одной из центральных улиц, где разгуливало много соотечественников-толстосумов с характерным пренебрежительном выражением на лице. Прямо перед зеркалом, она позволяла ему, это был их ритуал – еще раз и еще – до самого отъезда, но в остальное время они ходили по улицам, как немые тени друг друга, она курила, он, как петух, вертел головой.
Обсуждали за завтраком, как и положено в начале декабря, не глядя друг другу в глаза.
Может быть, куда-нибудь еще?
Не стоит, – вяло не согласилась она. Поздно осваивать новые маршруты.
Одежду покупаешь сама, – внезапно выкрикнул он.
Именно, – как бы продолжив его фразу, согласилась она.
Почему – одежду сама? Почему так легко согласилась? Не хотела лишних разговоров?
Спокойно, певуче, нежно, с легким румянцем, как всегда, когда выплескивала яд ему в лицо.
Свои вещи собирай сам.
Докурила. Не глядя на него, с мобильным телефоном в руке прошмыгнула в ванную.
Он кричит посреди комнаты, хрипло, будто с пулей в животе.
Гадина, кричит он, сволочь, сволочь, – так внезапно среди породистого просторного разговора, точнее, мыслей о прелестях Другого Города. С кем ты крутишь, кому ты строчишь эти писульки, рыжей шлюшке, девке копеечной?
Как в театре.
Он подумал.
Она подумала.
Почти Шекспир.
А она похожа на Пеппе Длинный Чулок, правда, милый?
Ее конек. Так беззаботно и красиво парировать патетический вопль, этим всегда возбуждала, он соврал, конечно, возбуждает, от этого и глупая обида, и бешенство, и беспомощность перед невозможностью, неуместностью ревновать. Убьет ее, решил точно, в этот раз точно, не так, как тысячу раз уже решал. Угробит, удавит, вытрет ноги и этим сотрет в порошок.
Самолет поблескивает крыльями, легкий, как облако, воздушный корабль с элегантными полосками на боках.
Просим пассажиров срочно пройти на посадку к выходу номер шесть.
Молча весь путь в аэропорт, паспортный контроль, его одесские шуточки, улыбочки майорш, шерстящих паспорта, ее мука от запрета на курение. Он видит.
Вспоминая, как когда-то уговорил ее пойти с ним в мужской туалет, и пока она жадно курила, целовал ее как хотел. Перед вылетом к какому-то морю, на их заре.
Она смотрит в сторону. Останавливается около киоска с косметикой, долго выбирает дрянь.
Заплатишь?
В обмен на твой телефон.
Мой телефон? Глупец…
Поворачивается красивым профилем. Зажимает зубами фильтр тонкой сигареты. Хочешь мой телефон? Рыться в памяти? Читать чужие письма? Изволь… Десять тысяч!
Видит, как она падает от удара, как течет кровь из раскромсанной брови. Такое видение часто, последнее время часто накатывает на него, когда он сам разбивается вдребезги об ее невозмутимость или отчетливую холодную провокацию. Он вдребезги и она вдребезги… Сладко ноет спина.
Он видит, как она падает навзничь, такая же тонкая, как и ее суждения, кто-то бросается ей на помощь, люди, военные… Он добил бы ее ногой и пошел бы прочь прямо на взлетное поле к звездам и облакам.
Сама возможность выложить столько унизительных денег за телефон уязвившей его жены – для алиби многих бессмысленных, но таких успешных начинаний последних лет.
Зачем живешь, небо коптишь? Чтобы держать ее рядом. На цепи дрессировщика. Он и она – законченная причинно-следственная цепь. Других объяснений не надо. Ясно, как день.
Поединок мужчины и женщины – достойное занятие для людей с фантазией, – любила повторять его мама Роза за приготовлением фаршмака по рецепту соседской еврейки. – Только у мужчины должны быть и другие фантазии.
У него, Павла Баржеса, сына Розы, была фантазия. Не то выкрал бы телефон ночью из сумочки, в которую она так заботливо всякий раз упрятывает его, сослепу кладя на самое видное место. Но его гонор, его вызов, его гормон – вечный вызов этой фитюльке – заплатить, непристойно плеснуть ей в лицо жидкими деньгами, словно мужским ядом, от которого родятся дети.
Она, конечно, считала его самого дешевкой. Всегда. И трудилась над ним прилежно, без показухи, приучая к одежде, еде, словам. Такая в ней работала программа – без сбоев и обычных программных причуд. Терпеливо, день за днем. Надень, сними, вымой, не говори, делай тише, убери, дай себе труд.
Но в глубине души она знала – этот одессит, неудавшийся гений, для нее, еврейской аристократки, никогда не станет второй половиной, в которую входишь со щелчком замочка, попадая в собственный паз. Ни округлостей, ни впадин, ни запаха, не то строение, все не то, кроме отчаянной смелости быть все время не тем, некстати, глуповатым, но мужественно присутствующим.
Она страдала от него. Как страдала от московской зимы, русского хамства и невежества, новостей по телевизору, болтливости подруг, детской нечистоплотности дочери, плохих шуток…
Он сидит, уставившись в иллюминатор. Она ужинает: сок, минеральная вода, красное вино. Читает газеты, принесенные бортпроводницей.
Он сидит, уставившись в иллюминатор. Вскрыть и прочитать ее телефон нельзя, он выключен. Чтобы не мешать самолету ориентироваться в облаках.
Он придумал, как вернуть деньги, уплаченные за телефон. Сам себе напишет в отчете, что потратил их на бессовестный подарок столичному казнокраду, без пугливой закорючки которого не могло бы случиться чудо последнего золотоносного контракта. Кто проверит? Кто сочтет? Лучше он сам себя обманет, деловладелец Павел Баржес, чем даст жене своей бесстыжей надсмеяться над ним. Ишь, удумала, десять тысяч!
Но она невозмутима.
Когда-то за этот поворот головы, за этот профиль, за эту невозмутимость он был готов стать любым.
По заказу. Как пучок морковки или сельдерея в руках искушенного повара.
Он так ей, конечно, не признавался. А признавался нехотя, с оговорками и прибаутками.
Что-то мямлил, пересыпая неуклюжие словечки полугрубостями, что говорят пацаны, когда предлагают женщине стать подругой. Когда грезят всегда иметь женщину под рукой, доступную, податливую, готовую прислужить и простить.
Но и обороняющуюся, грозящую уходом, чтобы остаться не съеденной, всегда горьковатой на вкус.