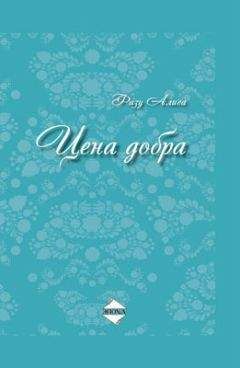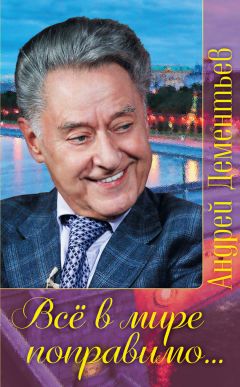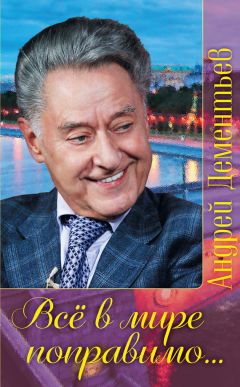Мария Голованивская - Нора Баржес
Ей не хотелось уезжать, уезжать без сумасшедших погибших кож, она хотела раздобыть себе новых.
Ему не хотелось уезжать в раздрае и скармливать ее такую оскорбленную Риточке.
Легли отдохнуть прямо среди осколков и клочьев, окровавленных носовых платков, которыми он вытирал руку.
Накрылись пледом, обнялись как дети.
Он спросил, любит ли она его.
Она ответила, что да, любит.
Он уснул.
Она отвернулась спиной, мгновенно ощутив его руку у себя на талии – привычная поза, уже давно ставшая неотъемлемой частью их сна – и прежде, чем провалиться в свой всегда тяжелый и мучительный сон, она, словно наводя порядок в воспоминаниях, аккуратно взяла каждое из них в руки и расставила по местам.
Вот они впервые заходят в Риточкину светлую квартиру. Белые стены, милые картинки повсюду, чудесные цветы на подоконниках.
Вот Риточка показывает ей семейный альбом с фотографиями, вдруг печалится, вспоминая о какой-то тетушке, так внезапно умершей два года назад.
Вот Нора рассказывает ей почему-то о фламандских натюрмортах, где всякая снедь выходит из берегов, раки таращатся, окуни пялятся, раковины сверкают, и они хохочут, как девчонки, переводя это в наименования, живущие в сегодняшнем дне.
Вот Риточка ставит ей светлокожий голос с темнокожим тембром, и он мурлычет «Санрайз, санрайз», а Риточка говорит, что две Норы должны исполнять песнопения хором. И разучивают слова. Потом танцуют и поют другие слова.
Вот Норочка в коридоре, спешит, ведь она забыла обо всем, ей так легко и вольготно, так хорошо в этих улыбках, музыке и цветах…
Рита целует Нору и она ее, раз, и дв, а и три. Они застывают обнявшись.
От Риты пахнет васильками, солнцем, ее розовые щеки сладковаты на вкус. От Норы – темной сладостью знаменитой Пятой Улицы, табаком, оливковым маслом, на которой замешана ее утренняя маска, лицо, личина.
Голос продолжает петь.
Они вместе, пока плывет пластинка.
Какая приятная глупость, – говорит Нора, отрываясь от риточкиного лица и заливаясь еле различимой на темной коже пунцовой краской.
В отличие от многих других, – подмечает Риточка и заливается смехом. – Ты ведь позвонишь мне сегодня вечером?
Конечно, – не отводя своих испуганных и восхищенных глаз от ее золотистых, обещает Нора.
Она мчалась домой сама не своя. Буквально – больше не принадлежащая себе, другая, не такая, как раньше. Она летела, а не плелась, как обычно, под тяжестью невидимого никому груза своего происхождения, мучительных отношений с близкими и далекими. В ней поселился вирус, множащий что-то иное, веселое, не ее, а, напротив, риточкино, звенящее, неудрученное.
Может быть, я не в себе, – спрашивала она неизвестно кого, вечно мыслящая и формулирующая ясно и от этого чувствующая несварение мыслей. – Может, у меня расстройство основных процессов?
Она, вечно сдержанная и вялая, поцеловала пухнущую над уроками дочь, говоруна, застывшего изваянием перед футбольным матчем, она даже не завывала во время телефонного разговора с матерью, конечно, опять все перепутавшей и сделавшей не так, что на этот раз не привело к причитаниям длиной в сорок минут.
Все было на месте, она убедилась и теперь могла подремать. Аккуратно, как всегда, сняла с себя его руку, свернулась калачиком.
Но вдруг почувствовала, что нужно проверить звонки, именно после этой инвентаризации они могли проклюнуться – и точно: окошечко изобразило послание, и она выскользнула с телефоном в руках в ванную и зашептала, вернув назад, в Москву, один из десяти пропущенных звонков. Ее голос почти пел, она не чувствовала ни обиды, ни беспокойства.
Риточка… Так хорошо, что ты подошла, что ты звонила. Готовили опять фантасмагорический праздник, господи, да есть ли конец этим праздникам? Что ты говоришь, милая? Здесь прекрасно, ну, конечно, прекрасно, милая. Что ты говоришь? Мы вернемся через неделю… Куда уедешь?
Она увидела Пашу в проеме двери и не заметила его. Он присел на край унитаза, закурил. Она говорила с ней о прошедшем времени, только нахваливая его, чувствуя на том конце прямой, соединяющей их в эту минуту, какую-то пустоту, но внутренне списывала это на расстояние, так сказать, на дальность полета. Просто слова чуть-чуть выветривались, считала она.
Паша, сколько километров от Москвы до этого Города?
Ты выкрала у меня купленную вещь, – тихо, до конца не доверившись никакой из интонаций, произнес он. – Воровать плохо.
А знаешь, что ты у меня украл? – спросила она ледяным голосом.
Ладно, пошел паковаться назад, – выдохнул он.
А что, – парировала она молниеносно своим очень ровным и тихим в критических ситуациях низким голосом, – что ты можешь сделать такого в Москве, чего не можешь сделать здесь? Бросить меня? Наводнить дом в отместку мне блудницами? Геями? Предаться безрассудному саморазрушению, чтобы заставить меня виниться, страшно страдать, как я страдала всегда? Так все это можно сделать и здесь, начать делать здесь, ведь это только иллюзия, Паша, что, улетев отсюда, мы денемся куда-то от самих себя, и где-то «там» нам будет легче. Действуй!
Он глянул на нее, громко вздохнул, подошел к окну, посмотрел вниз на уютное свечение кафе на углу, на быстро шныряющих по улице аборигенов с поднятыми воротничками, на припарковавшееся у подъезда такси с рекламой какой-то оперетты на боку.
А ведь ты, как всегда, права, – улыбнулся он, – надо действовать сейчас. Мы, как и собирались, уедем через неделю, но только погуляем порознь! Благородный и мудрый план!
Он присвистнул, цокнул зубом, радостно заходил по комнате.
Я действительно всегда права, – вздохнула Нора, закурив мужские сигареты из сигарной крошки. – Я так и знала, что ты так поступишь.
Он ненавидел эти «я так и знала», он чувствовал от этих слов нервный зуд по всему телу, но он был окрылен внезапным чувством освобождения и легкости. Он, казалось, больше никак не зависел от этой всепроникающей и тяжелой, как дым мужских сигарет, женщины. Он словно сбросил ее с себя и полетел, полетел…
Парки Ее Величества простирались у него под ногами. Он летел над ними, размахивая полами плаща и концами гигантского полосатого шарфа, как человекообразный пеликан, у которого розовый зоб полон первосортных свежих икринок.
Он был богат уловом.
Он пил кофе и горячий шоколад из стаканчиков с рифленой защитой для чувствительных к ожогам человеческим пальчиков, он звонил по телефону – сначала дочери Анюте, которой послал горячий, как этот шоколад, папин привет; потом набрал художника Петра Кремера, который по-прежнему писал пейзажи то в Испании, то в Италии; потом Майклу – надежному до тупости партнеру в общих коммерческих делах.
Анюта заверила, что папу очень любит.
Петр Кремер сказал, что катается на лыжах во Франции и подъедет через пару дней повидаться со старым другом, а заодно – может быть – кто знает – наконец-то намалевать его портрет.
Друг Майкл сказал примерно о том же – праздники, контора закрыта, подъедет кое-что обсудить-решить и прочее.
Он был доволен такой перспективой. Хорошая компания, веселые деньки.
Соорудив себе ближайший week, он принялся за непосредственно лежащий под его ногами, как и парк Ее Величества, день. Он подобрал его, разглядел: миленький, кругленький, ясненький, несмотря на собирающийся, по обыкновению, к вечеру дождь и порывистый ветер, и зябкость, забирающуюся за пазуху.
Он сел в ресторанчике на узкой улице, заказал равиоли, за соседним столиком студентка в брекетах уверено прихлебывала из огромного стакана ледяную кока-колу. Он заговорил с ней, как подросток, а она с ним, он съел равиоли, она закончила колу, они сели вместе и болтали, сначала о России – он очаровал ее талантом рассказчика и юмором, потом про университеты в Европе, про женихов и надписи на скамейках в парках, они пошли по улице, они посмотрели фильм о молодом поддонке, соблазнившем английскую аристократку, они обсудили фильм, и она ушла на вечерние лекции. Он был счастлив. Они скинул двадцать лет. Он захотел молодой кожи, глупых рассказов, прошлого как чувства, которое можно воскресить в себе умелыми манипуляциями.
Он дошел уже по темным улицам до ласково мигавшего днем, а теперь совсем откровенно подмигивающего кафе на углу, где белый, пастозный, слюнявый парень с водянистыми, как обезжиренное молоко, глазами говорил ему об «этой суке», которая «все у него забрала», а другой, в вязаной шапочке, странно подпрыгивающий на пружинящей подметке экс-замшевых кед, толковал примерно о том же, но с вариацией – он вытянул ее из дерьма, а она его в него втолкнула.
Разговоры зрелых мужчин всегда об этом, – подытожил Павел, запивая каждый поворот мысли рассказчиков доброй пинтой пива.