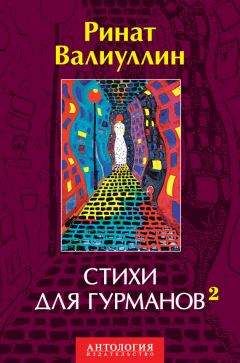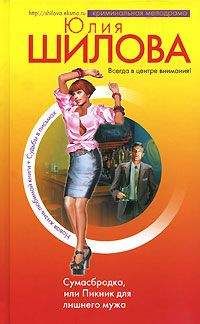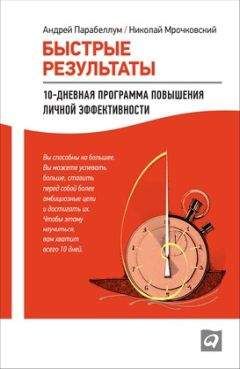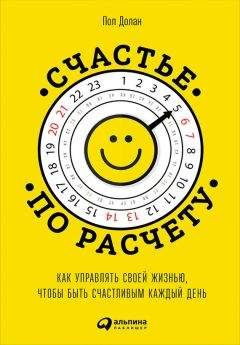Ринат Валиуллин - В каждом молчании своя истерика
– Не согреют.
– На самом деле, старик, вынужден тебя разочаровать: не было никакой испанской любви, я все придумал.
– Зачем? – сомневался Антонио.
– Не знаю, может, солнечный удар. Может, надоело быть нянькой для Фортуны. Мне же с ней приходилось вечерами бродить, вместо того, чтобы с любовью.
– Все равно не верю.
– Ты же видишь, один живу, – потряс я пачкой чая в пакетиках. Достал пару и протянул один ему, другой открыл сам.
– У меня дома тоже такой. Ну и что?
– Для меня чай в пакетиках – верный признак одиночества. Один я как перст.
– Не может быть. Я думал, что у тебя на каждой полке по телке, – пахнуло мужицким юмором от Антонио. – Что, вообще никого нет?
– В том-то и дело. Плохо стало с женщинами, а с настоящими вообще труба. Я же без любви не могу.
– А ты с любовью к ним подходи.
– Подошел недавно к одной. Познакомился в час пик в метро, – достал я из холодильника сметану и налил в глубокую пиалу, вспоминая, как поезд остановился на станции, лязгнуло железо, распахнув ставни, вагон сбросил пассажиров, а я продвинулся ближе к дверям. – Мне выходить на следующей. Стою. Но тут какая-то неведомая сила потащила меня за сумку. Пришлось выйти следом.
– Давай, сними пробу, – дал я вилку и нож Антонио.
– Да погоди ты, что дальше-то было?
– Черт, – закричала девушка, – Что вы клеитесь?
– Честно говоря, с утра не до флирта, – отрезал я себе половину блина. Из него потекла сладкая вишневая кровь. Я уложил его себе в рот. Сочная горячая смесь вскружила мне голову.
– Ну и? – взялся за приборы Антонио.
– Ваша сумка липучкой приклеилась к моим чулкам.
– Что же делать? – начал я разглядывать ее ноги.
– Отцепитесь, как-нибудь осторожно, колготки новые, – поправив прическу, выставила она красивую длинную ногу, добавив: – И дорогие.
Я смотрел на ее атрибут красоты и улыбался сам себе: неожиданно, чтобы утром в метро, тебе предложили такое. Потом взял мягко за голень и начал скрупулезно отклеивать. Получалось довольно паршиво. Она внимательно наблюдала, как стрелки одна за другой поднимались все выше, не стрелки, а настоящие стрелы.
– Ну что же так долго? Вам плохо? – кончилось ее терпение.
– Да, кажется, одна из стрел попала мне в самое сердце.
– Если бы это рассказал не ты, а кто-нибудь другой, я бы не поверил, – достал сигареты Антонио, за рассказом спрятав в себя пару блинов. – Телефон-то хоть взял?
– Да, даже почти встретился.
– Почему почти? – затянулся он и закинул голову вверх.
– Не пришла.
– Значит, твой массаж ей не понравился, – засмеялся своей шутке Антонио.
– Еще, как назло, погода в тот день была на редкость неуравновешенной. Листвой хлестал дождь, мокрая сука осени приклеила меня к дереву словно объявление: «Сдается мужчина, одинокий, трехкомнатный, на длительный срок, дорого (он любит, когда его зовут „Дорогой“), звонить по телефону, и номер». Никто не подходил, не читал это объявление, я стоял, ждал, мок, зная, что она уже не придет, – все еще возился я со своей едой. Да, теперь это уже было не лакомство, а еда, не прошло и десяти минут, вот так же и с некоторыми людьми, не замечаешь, как они становятся для тебя просто едой, ежедневной, необходимой, но едой, уже не лакомством.
– Почему женщины не приходят порой на свидания?
– Я совершил одну грубую ошибку. Я озадачил ее, но не дал отдышаться. Знаешь, как хорошему вину, его надо открыть и прежде чем пить, дать отдышаться несколько минут.
– Ты же знаешь, я вино не люблю.
– Это не так важно, в общем, потом его можно пить, сколько душе угодно.
– Ты хотел сказать, ее?
– Ну да, ее. Если вино кислит, значит, ты не достаточно его охладил его своей страстью. Любовь – это искусство, где любая ерунда может как вдохновить, так и разочаровать.
– Где ты только их находишь? Складывается такое впечатление, что женщины просто преследуют тебя.
– Нет, просто я ими дышу. Когда их нет рядом, будто кислород заканчивается. Жизненная необходимость, понимаешь? Да и работа. Кто, думаешь, ходит на эти тренинги личностного роста? Женщины в основном, мужчине, прежде чем переступить порог наших курсов, необходимо признать свою неполноценность, некомпетентность, отсталость от жизни, если хочешь. Позвонить нам – значит переступить через себя. А кто на это готов – очень немногие. Женщины активнее, смелее, а главное – любопытнее. Сейчас поедим, и я тебе расскажу еще одну историю.
– Я тебе тоже расскажу еще одну историю, может не так красочно, как ты, но не суди строго. Я шел по тротуару, рядом – девушка, мы двигались с одинаковой скоростью, почти касаясь друг друга. Казалось, даже шаг в шаг, в руках у нее трепыхалась оранжерея живых красных роз. Мы, незнакомые абсолютно, соседи по тротуару, просто совпали по времени. Шли люди навстречу, после они долго оглядывались. Я чувствовал, нам завидовали. Некоторые – мне, некоторые – ей.
* * *Я проснулся на заре. Сон ушел чуть раньше, не дождавшись рассвета. Рядом спала Фортуна. Слышно было теплое дыхание: ее голова повернута ко мне, она смотрела затворенными глазами, рот чуть приоткрыт, будто она не решалась что-то сказать, что-то очень важное, например: «хватит храпеть» или «сними с меня свою ногу», или «у меня есть другой», или «поцелуй меня, я уже закрыла глаза». Правая ее рука прижилась на моей груди. Мне пришлось выселить ее восвояси. Я откинул одеяло и поднялся.
Подошел к окну, посмотрел в забрызганное осенью стекло и подумал: «Зачем так долго, зачем так часто барабанить с утра прямо в голову, я давно уже понял тебя, дождь, ты капля, одна большая, расчлененная на части, ты, – пытался я остановить пальцем ее ход. – Хочешь непременно, чтобы я выглядел таким же вот разбитым и несчастным. Нет, не пройдет», – но тщетно, струйка, не обращая внимания на мои пальцы, устремилась вниз. Я находился по ту сторону дождя, в одних трусах, но это не мешало мне мыслить философски. Как это приятно – находиться иногда по ту сторону.
«Я понял тебя, дождь, ты мокрый, можно даже не трогать». И это ощущение холодного окна позволило продолжить мысль, будто посредством своего пальца, которым я двигал по стеклу, словно улитка гибким телом, оставляя туманный след, соединил собственное мироощущение с мозгом и последний мне телеграфировал короткими фразами: «Я понял тебя, дождь, ты сука, унылая, тоскливая, которую никто не хочет, и каждый, кто тебе поверит, смертельно болен, я понял тебя, смерть – ты жизни, я понял тебя, мир – ты войны, я понял женщину – она единственная, тогда как связи – они случайны, я понял деньги – вы кончаетесь, я понял тебя, работа, ты постоянна, я понял роботов, они талантливы, я понял труд, он в тягость, я понял отдых – это сон, все остальное было только заменителем, сон – он сладкий, я понял – сладость растворима, я понял счастье – ты стерильно, ты рядом – достаточно переключить программу, я понял радость, ее больше в детстве, я понял горе – это больно, и пережить его – значит, стать безумно сильным, я понял слабость – это недостаток сердца, я понял сердце – это бойня за любимых, я понял силу – она в любимых: в любимых вещах, уголках, стенах, окнах, глазах», – оторвал я палец от стекла и связь прервалась. Одиночество выедало меня потихоньку. По частям. Я ясно ощущал, что с каждым мгновением меня становилось все меньше, и вот уже от меня осталась всего половина. В поисках второй, я снова лег на диван и прижался к теплу Фортуны. Это был самый простой тест на знание «Твоя ли это женщина». Достаточно было лечь рядом, чтобы понять: она греет, она не ворчит, она любит в любое время дня, в любое недомогание ночи. Я провалялся там еще час, листая журнал о фото. Фотографии были красивые, но цветные.
* * *На паркете темного лакированного пола лежала тень дня, как будто ее кто-то бросил неосмотрительно под ноги и забыл. Стеклянной красной струйкой спокойно разливалась бесполезная беседа, стройность пластиковых ног стола и стульев переплелась со нестройностью людских, но, так или иначе, все оказались заложниками осужденных стен. Одни молчали безответно, другие наполнялись жидкостью, многозначительно целуя сигареты, прикуривали, скрывая в клубах дыма выражение скуки и тоски, видимо, они осознавали: нет истинного в беспредметном, как и преступного в вине. В то время как усталый день гноился солнцем и скитался по задворкам города, его тянуло всеми фибрами в тяжелый сон, однако спать нельзя, потому что для многих это означало ночь промаяться в бессоннице. Он, одноглазый, стоически держался, наблюдая, как люди не переставали пить и есть в им освещенной небольшой квартире мира, закрытой от него редкими кусками ваты, их разговор, где точка зрения делила текст, как запятая, ему был скучен и неинтересен. Мне тоже была неинтересна пьяная болтовня соседей, что без спроса лезла в уши.
Иногда мне казалось, что я спокойно мог оставить Антонио, выйти в мир за новой порцией впечатлений, вернуться как ни в чем не бывало, а он все так же спокойно жевал бы свою газету, травил байки, успев между колонками слетать несколько раз на вахту.