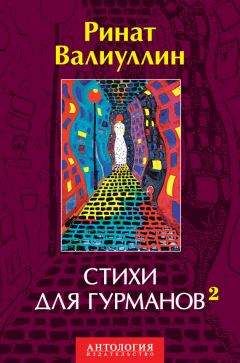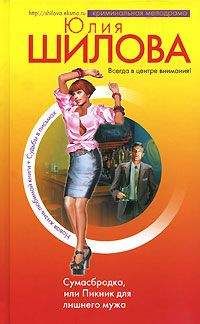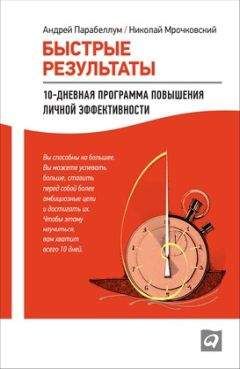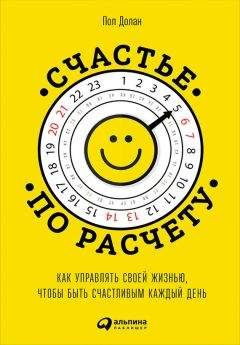Ринат Валиуллин - В каждом молчании своя истерика
– Алло!
– Да, слышу тебя.
– Так вот, он присел ко мне рядом на скамейку в тот самый момент, когда хотелось побыть одной, и начал грузить вопросами:
– Вы знаете кому этот памятник? – и сам себе отвечает: – Кутузову.
– Спасибо, я не знала. Они все такие похожие.
– Я бы мог вам много рассказать об этом городе и проводить по заповедным уголкам, – прошамкал он своими сухими губами и поправил седые усы. Хотите?
– Нет.
– А чего вы хотите?
– Я хотела бы посидеть одна молча.
– А как вас зовут?
– Не Лолита, – уже начала я понимать, к чему он клонит.
– Ага, к сожительству, – засмеялась собственной шутке Фортуна. И что дальше?
– Вы не бойтесь. Я не отниму у вас много времени.
Услышав про время, Фортуна машинально посмотрела на часы в комнате, те показывали пять часов. Она вспомнила, что в пять должны были прийти гости. Она совсем забыла, что обещала помочь матери накрыть на стол.
– Как вы можете отнять то, чего у меня нет?
– Вот и прекрасно, – снова смахнул он невидимые крошки со своих усов, – продолжала увлеченно Вика.
– Что вы тут делаете, такая очаровательная? – не унимался дед.
– Платье выгуливаю.
– Так вы здесь ждете кого-то?
– Да, мужа, – неожиданно пришло мне в голову.
– Что же вы раньше не сказали? – решил он навязать мне чувство вины. – Такая молодая, уже замужем. Почему так рано вышли замуж?
– Чтобы всякие липкие твари не приставали, – поднялась я со скамейки.
– Уже уходите? Можно я вас поцелую на прощание?
– Боже упаси. У вас усы отклеятся, – не стала дожидаться я ответа и исчезла.
– Здорово ты его отшила, я бы так не смогла, наверное. И чего им неймется, пенсионерам большой любви, сидели бы внуков лучше нянчили. Слушай, к нам уже гости приехали, давай я тебе позже перезвоню или завтра, – услышала Фортуна приветственную возню в прихожей.
– Ок, давай, до связи.
* * *Я тихо вошел в ванную. Она стояла ко мне спиной под душем, намыливая негромко Love Me Tender. Блестящая и голая, одетая в струю прозрачной бегущей ткани. Я протянул к ней руку, независимость ее тела вздрогнула от неожиданности:
– Что ты меня пугаешь? Я думала, это кто-то другой.
– Размечталась.
Я поднял с пола ее белье и, приложив к губам, демонстративно вдохнул.
– Ну, Оскар, брось – оно несвежее. Ты любишь меня? Я чистая.
– А я грязный, – обнял я ее, прямо в облегающем платье воды и проглотил в поцелуе. Через минуту она выключила душ, а я сорвал с вешалки большое белое полотенце, запеленал ее с головой, поднял на руки и понес в спальню.
– Можешь сделать мне одну вещь? – лежа в кровати, спросила меня Фортуна, пока я вытирал ее волосы.
– Какую?
– Приятную. Спой мне песню.
– Тебе нет, твоему животу спою.
Я прильнул губами к ее теплой коже и начал петь Happy Birthday.
– День рождения еще не скоро. Другие песни в репертуаре имеются? – спросила она меня сквозь смех.
– Нет, могу еще на трубе, – начал я выдувать пузыри чмокающих звуков в ее кожу, как это обычно делают малышам. И тогда смех ее стал звонче и вышел за все рамки приличия. Но я был настроен решительно, мои губы двинулись ниже – целовать ее бедра, где пальцы уже аккомпанировали легкими прикосновениями.
– Сколько у тебя пальцев, – все еще пребывала Фортуна в неком сумасшествии.
– С утра было десять.
– Это не вопрос, у всех десять, а у тебя вроде как сразу сто, стоит только тебе прикоснуться.
– Стоит-стоит, даже не сомневайся. Какие у тебя холодные щеки, – нащупал я руками ее ягодицы.
– Согрей. Если летом я страстная телятина на вертеле твоей любви, которую можно есть сырой, то зимой – замороженный полуфабрикат, что требует специй и жара для обретения вкуса.
– Мне и зимой и летом вкусно.
– Что ты там рассматриваешь? – подняла она голову, чтобы взглядом найти мою, потерянную уже несколько лет назад в ее заповеднике любви.
– Изучаю ландшафт. Хочу составить карту, контурную, твоих достопримечательностей: впадин, холмов долин, родинок.
– Почему контурную?
– Чтобы раскрашивать тяжелыми одинокими вечерами, – будто услышав меня, прошила наш вечер энергосберегающая лампочка луны. Комната наполнилась очертаниями предметов, которые прислушивались к мелодии, наполнявшей комнату, Back to Black Эмми Уайнхаус.
– Я хочу станцевать под эту мелодию когда-нибудь голой, – вдруг подняла она вертикально одну ногу из под одеяла, словно это была ракета, готовая к старту.
– Для меня?
– Нет, ты не заслужил еще.
– А для кого?
– Для себя, – согнула она ее в колене.
– А ты, значит, заслуживаешь?
– Заслужу, надеюсь, если самокритичность не одолеет или скромность.
– И станешь заслуженной артисткой нашей спальни.
– Нет, бери выше, нашей независимой республики на улице Марата дома 201 квартиры 4. Мы создадим государство только для двоих. В котором больше никто не сможет получить гражданство. В котором никто не будет нам указывать, как жить, с кем жить, зачем жить, никто не будет нас доставать. Кроме наших детей, – выпустила еще один шарик радужной фантазии Фортуна.
– Кто же будет президентом?
– Ты.
– Согласен. А гимн? Стране нужен гимн.
– Love Me Tender, – произнесла Фортуна, пока моя шея жадно целовала ее губы.
– Есть только одно неудобство в этом проекте – не выйти из дома без визы. Я не смогу так долго.
– Ничего. Со мною ты быстро научишься выходить из себя.
* * *Во сне звонил телефон.
– Привет. Что делаешь?
– Сижу на работе, пью шампанское.
– Я бы тоже хотел так работать.
– Ты не сможешь.
– Почему?
– У тебя совесть. Начнешь открывать бутылку, разбудишь.
– Мне надо с тобой серьезно поговорить, – сказал он таинственно в трубку.
– О каком серьезном разговоре может быть речь, если ты даже не материшься?
– Я-то? – усмехнулся в трубку Антонио и замолк.
Я знал содержание этой тишины. Когда действительно накопилось, мы все больше затыкаем смысла между строк, не произнесенных вовремя, даже молчание не лезет в эту бездну, оттого мы молчим так громко, что не перекричать. Я слышал, как дышит его голос.
– Так серьезно поговорить или помолчать? – открыл я кран, чтобы набрать в чайник воды.
– Да, я хотел заехать.
– Хорошо, во сколько ты будешь? – грел я телефоном ухо.
– Так ты дома?
– Дома, дома. Позвони мне, как будешь рядом, зайдем вместе в магазин, а то мне нечем тебя угостить.
– Жрал, что ли всю ночь? – пошутил он неожиданно. – Или перешел на хлеб и воду?
– На чай и сухари. А ты, похоже, пил?
– Что, перегар?
– Нет, но окно на кухне запотело, – отпарировал я.
Мне приятны были неожиданные нашествия Антонио. С его приходом в дом поступала приятная атмосфера доброй дружбы, которой от тебя не нужно было ничего, кроме участия. Найдется немного людей, способных вот так запросто рассказать о своих откровенных сомнениях, вытаскивая из себя то немужское, несмелое, незавидное, которое сидит себе в сердце каждого второго, зная, что его-то точно не выгонят, потому что оно находится под покровительством гордыни. Оно сидит и оплетает оверлоком швы неидеальной любви, то прибавляя ходу, то замирая, чтобы поправить зыбкую нить отношений. Чаще всего Антонио приносил с собой пару бутылок сухого. Хотя алкоголь здесь играл не самую главную роль, он скорее был декорацией, на фоне которой любые отношения могли стать ярче или тривиальнее, вспыхнуть или погаснуть.
* * *– Как ты можешь вставать в такую рань? – оголил я свой зрительный нерв и нащупал им в полумраке утра любимую женщину. Она сидела на краю кровати, собирая, словно распустившихся за ночь детей, свои волосы.
– Любое, даже самое холодное зимнее утро может спасти кофе, его крепкие объятия, – не обратила она на меня внимание.
– Черт, я уже ревную, – жмурился я. В окно дуло яркое морозное солнце. Я снова уткнулся в перину.
– Тогда вставай и завари мне чаю.
– Нет, к таким подвигам я еще не готов, – бубнил я в подушку.
– Ладно. Можешь сделать мне бутерброд? Я страшно голодная, – сказала она и нырнула ко мне под одеяло. – Нет, сначала отнести почистить зубы.
– Бутерброд не обещаю, но зубы отнесу, когда они у тебя будут вставные.
– Неужели мы сможем так долго вместе?
– А почему нет?
– Нужна я тебе буду беззубая. Я же не смогу кусаться.
– Замерзла да? Да ты вся дрожишь, иди, я согрею тебя, моя дрожайшая, – подтянул я стянутое полом одеяло, чтобы завернуть ее тельце.
– Не надо одеяла. Укрой собой.
Я послушно заключил ее в свои объятия.
– Что чувствуешь? – шепнула она мне.
– Легкое землетрясение.
– Только это не земля – это чувства, – всхлипнула она, и я увидел, как слезы застеклили ее окна.
– Ты чего, дурочка?
– А просто так, от зависти к себе самой.
– Некоторые способны делиться только завистью, за неимением других чувств, – пошутил я.