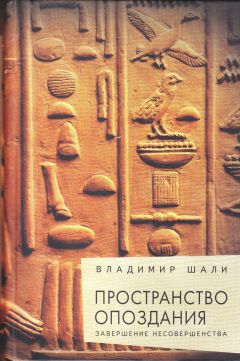Коллектив авторов - Фантасофия. Выпуск 6. Трэш
Нет, прервемся! Потому, что это мучение – вести мою прелесть, мое бесподобие, по бесподобному праву требующее бесподобных же подношений, – вести ее по проторенной тропинке, делая вид, что мы первые, одновременно с бессильной злобой взирая на следы разорения, учиненного впередипрошедшим. Вот раздавленная мякоть абрикоса, с которого тот живьем снял кожу для своей возлюбленной, вот пенек срезанного сравнения, вот вырванные и увядшие цветы запахов, вдавленные в грязь альпийскими сапогами, – да он ничего не оставил, потусторонний старик! Он выловил на моем пути всех бабочек, он профильтровал своим мелкоячеистым сачком самый воздух – и не потому, что был всемогущим, а потому, что всего было мало и в единственном экземпляре! Он схватил форелевую тему сухими пальцами, ободрав ее прозрачный покров и навсегда заразив плесенью, которую с ужасом замечаешь, целуя пойманную в холодный конопатый нос. И самое трудное, идя по следу (никуда не свернуть, не обойти, – женщин миллионы, девочка одна) и встречая лакуны, вылаканные жадным чавкающим стариком, – самое трудное восполнить их так, чтобы не ошибиться во второй раз…
Но сосредоточься, ради бога! Моя мятущаяся тень не понимает, чего хочет ее хозяин, бредущий за танцующей девочкой, и какие мысли крадутся в его голове. Да отстаньте вы! – я ничего не знаю пока, кроме того, что здесь – Азия, здесь юная Луна лежит на спине, раскинувшись, и так на спине, беременея, уплывает рожать, чтобы снова появиться в вечернем небе молодой и бледноногой; здесь все горячее и суше, и я не виноват, что маленькая нимфа оазиса сама поманила меня, я не знаю, чего от нее ждать, и что она сама уже знает…
Он не знал этого до такой степени, что в беседке, в ожидании, пока она снимет майку, его пересохшее сердце остановилось в томительном предчувствиии – и облегченно пустилось дальше, увидев два несерьезно сморщенных лепестка купальника. Извиваясь и дергая плечиками, она стянула тесный чехольчик шорт, ухитрившись задержать локтем увлекаемые шортами (или его глазами?) трусики, бросила шорты на скамейку рядом с майкой, и мужская рубаха легла сверху, обняв опустевшие формы девочки мускулистым рукавом.
Из будущего плохо видно, как она входит в воду: зябко сведенные плечи, адресованный назад смешок, хрупкий аккорд ручьистых ребрышек; поскользнулась на подводной ступеньке, забалансировала руками. (Рисунок очередного маньяка: девочка на шаре и воззрившаяся на нее глыба, раскаленная изнутри распадом тяжелых чувств. Ах, это отец акробатки? Тогда простите, – мне показалось, что это еще одна разновеликая пара в очереди за счастьем.) Не удержавшись на мыльной доске, она с визгом бросилась в воду. Он нырнул, пошел торпедой на колыхание русалочьих ножек, – но, вдруг задвигавшись, они растворились в темноте. Бесшумно всплыв, он огляделся. Она тихо смеялась невдалеке. «А вот и не догнали, – сказала она. – Я вообще боюсь, когда под водой подплывают. А вы совсем как акула были, – я как рванусь! Чуть не заорала… Зато страх такой здоровский, как будто внутри щекотят».
Потом она плыла к берегу, он тянулся следом, зарываясь по ноздри, глотая воду, омывающую ее плещущие впереди ножки. Не догоню, конечно, не догоню, моя наивная откровенность. Пусть подольше щекочет тебя этот здоровский нимфический страх, настолько чистый, что о нем можно со смехом поведать охотнику. Скоро он уступит место искусственному, как манок на селезня, кокетству, так же, как девочка уступит женщине, позабыв, какая музыка была!..
Когда он поднимался в беседку, где уже прыгала, согреваясь, девочка, он знал: ничто не помешает ему стиснуть ее худенькое тельце в объятиях его представительной рубахи. И он сделал это, грубовато сломив ее слабое сопротивление («Я вам ее измокрю»). Да уж, сделай одолжение, измокри и потщательней. Можешь вытереть ею голову, можешь рассеянно изжевать и замусолить воротник, можешь уйти в ней в завтрашний день, чтобы, загорая под его жарким солнцем, промакивать ее жадной тканью драгоценную влагу, по каплям стекающую в пупочек, – и все остальное, вплоть до… (На этих трех точках мастер миниатюры изложил историю дальнейшего возвышения данной рубахи – до первых замет лунного календаря). И чем глубже узнает ее эта рубаха, тем с большей благодарностью примет ее назад владелец, – ведь отныне и до изветшания память будет брать твой узкий след моментально…
Закутанная в рубаху, согнувшись и положив подбородок на высоко поднятые коленки, она согревалась, глядя в темноту пруда. Вдруг сказала: «Один раз, когда я была маленькая, мы ездили на море. Наверное, весной, потому что было холодно, и после купания папа заворачивал меня в свою рубаху… – Наклонив голову, потерлась щекой о рукав, прислушалась. – Она даже пахла так же…»
О, это был удар! – тем более сильный в своей неожиданности. Рубаха покраснела, уличенная в кровосмесительстве, а пристыженный папа сжал челюсти, многотонным усилием растирая в пыль желание шмыгнуть носом. Он вдруг с реальностью бреда вспомнил тот пустынный пляж, холодный соленый ветер, треплющий линялый тент, и свою улыбающуюся синегубую дочь, которую он обливает пресной, нагретой на солнце водой из перламутрово-серого полиэтиленового мешка перед тем, как завернуть в свою большую рубаху. Рука сама поднялась, чтобы с неведомой дотоле отцовской нежностью погладить мокрые волосы дочери, привлечь ее с мягкой простотой, – но внезапный порыв ветра сдул это, трепещущее от собственной незаконности, родство, – зашумели черные деревья, метнулись громадные тени, рубаха сползла, обнажив лунную лопатку, и под его заботливой рукой ее спина отозвалась мелкой дрожью. Прогнувшись, она ускользнула от ладони, вскочила и, скинув рубаху ему на голову, бросилась в воду.
Снова был пруд, и мужская рука, наконец, поймала тонкую, скользкую, как весеннее небо, лодыжку, а ее бьющаяся в радостном испуге обладательница смело тонула от смеха, полагаясь на эти сильные руки, чьи пульсирующие пальцы полностью замыкаются на ее талии. И на обратном пути от кувшинок он решился. Поднырнул, поднимая спиной ее ахнувшее тело, приказал обхватить за шею, – только не душить, не то сброшу… Смеялась ли так Европа на спине быка, сжимая его крутые бока поддакивающими смеху коленками и быстро-быстро целуя животиком его спину? Держал ли он свою чугунную голову так же неподвижно, позволяя щекотать его ухо и щеку ее мокрым волосам и прислушиваясь к пальчикам на своей груди? Извиваясь под смеющейся девчонкой, ухитряясь поддерживать ее второй парой рук, прижимая к спине все плотнее, он доплыл и даже поднялся по ступенькам с висящей на шее и болтающей ногами эгоисткой, – выходящий из воды удачливый сатир-самоубийца с натянутой до предела тетивой…
Кажется, он так и донес ее до своей кельи, – хотя она шла рядом, постоянно теряя шлепанец, хохоча и кидаясь виноградом. Он тихо перенес ее через перегородку лоджии, впустил в уже знакомую ей комнату, замешкался сзади. (О чем он думал перед тем, как последовать – все это вроде бы не представляет тайны для столь подверженного эмпатии вуайериста, – но этого страдальца стоит предупредить, что судьба топчется у развилки: так она не задумывалась, даже решаясь на потопы и войны). Когда он вошел, она уже возилась на кровати, забравшись с ногами и ставя за спиной подушку, – она чуть-чуть посидит и пойдет: поздно уже…
Уже поздно. Он уже подкрадывался. Присел на кровать у ее ног, сразу с креном к этим ерзающим коленкам; смотрел на них, лихорадочно ища какую-нибудь отвлеченную мысль, способную сбить с прыжка хищника, – припавшего к земле и не спускающего глаз с жертвы, весело возящейся в силках кровати. Например: какой терминолог замаскировал эту зарю страшным словом «пубертатный период»? Сухое перечисление признаков: особенно сильно растут конечности (мой жеребенок), отмечается соматическое и психическое беспокойство, велика тяга к приключениям, высоко ценит дружбу, – вот он, большой тяжелодышащий друг, с медленной неуклонностью часовой стрелки он клонится к твоим газельим коленкам – назревает приключение… И уже тронулась и поехала под ногами осыпь, уже пропасть манит сладким ужасом полета, – еще немного и, удерживаемый на цепи зверь потащит хозяина за собой, и он начнет продвигаться куда-то вслепую, бродя губами по теплому трепету, двигая лбом ее слабо упирающуюся ладонь, поднимаясь, вырастая, обнажая – ее тело, свои клыки и когти, – стискивая ее стонущие запястья, раздавливая губы о выгиб ее ребер, выпивая дрожащую линию ее живота, разделяя, раздирая ее сплетающиеся ноги, – о, как забьется ее горячее тельце под его клыкастыми ласками!..
Испугавшись, что движение станет лавинообразным (вспомни о папе!), он фальшиво потянулся и упал на спину поперек кровати. «Эй, так нечестно, – протестующе забила она ногами, – я только что собиралась вытянуть ноги! (Лежащий, не открывая глаз, снова потянулся.) Ах, так? Сейчас же привстань, не то положу ноги прямо на лицо! Бе-е, какие грязные ноги!» – притворная угроза в звенящей струне голоса. Нарастающий рокот, зрители в напряжении, маленькая дрессировщица приближает вздрагивающую ножку к пасти неподвижного, постукивающего хвостом хищника. Тень уже упала на морду, еще одно предупреждение сорвалось в шепот. Ближе… Еще ближе… Касание! Общий вздох ужаса, – метнулась потная лапа, и дрессировщица, взвизгнув, перекатилась на живот, дергая схваченной ногой и радостно скуля. «Откушу», – рычал зверь, пробегая губами по ее пальчикам (кажется, даже боязливо лизнул впадинку подошвы), вызывая корчи и хохот щекотки… Зрители настороженно замерли – пока ничего страшного, но животное есть животное! А что они знают о его чувствах, как передать им всю гамму его переживаний, не сорвавшись с каната выразительной пристойности, когда бьется в руке пойманная жертва, своим запахом и таким манящим трепыханием срывая с цепи натасканного лишь на одно глупого hot dog'а, – и охотник прикрывает пса ногой, чтобы его вид не напугал наивную игрунью, чтобы даже след голодного слюнотечения на наморднике брюк не попался бы ей на глаза…