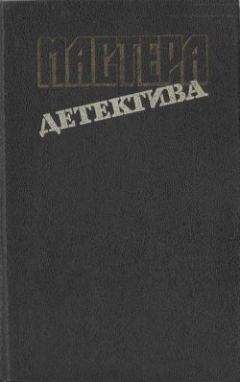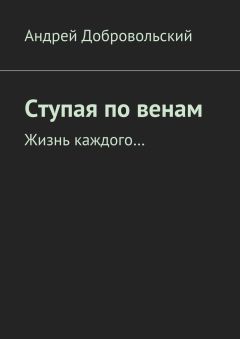Зинаида Гиппиус - Том 1. Новые люди
И, объяснив дело, Ида сложила губы сердечком с достоинством.
Костя немного пришел в себя от изумления и стал размышлять.
– А когда мама уезжает? – спросил он, помолчав.
– Сегодня. Через полчаса вас проститься привести велела.
Костя опять задумался и думал долго. Потом произнес, не обращаясь к Иде:
– А мне все равно. Ведь меня все равно в пансион свезут в тот четверг. Так что мне?
Ида взяла его за руку и повела к маме. Она отворила ему дверь будуара, а сама не вошла из скромности.
В будуаре стояли два сундука и сак. На низком кресле, у окна, сидела мама, так тихо и такая худенькая, что Костя ее сначала и не заметил. Но она повернулась и подозвала его поближе.
Она была в черном платье; дорожная сумка уже висела через плечо.
Косте показалось, что когда прежде мама носила черное платье, она выглядывала из него такая веселенькая и розовая, а теперь ее лицо было некрасивое, глаза мигали часто, и вся она постарела и затуманилась.
«Все равно меня в пансион, – подумал настойчиво Костя. – Так чего же?»
– Костя, я уезжаю, – сказала мама, без сердца и без ласковости. – Может быть, мы долго не увидимся. Ты поедешь в Москву. Учись хорошенько. Не огорчай папу. Теперь прощай.
Она поцеловала его и сделала знак, что он может уйти.
Костя повернулся машинально, как вдруг мама неожиданно схватила его за руку и близко наклонилась к нему своим лицом, и смотрела ему в глаза.
– Костя, – шептала она, – что ж это? Так нельзя. Скажи мне что-нибудь, одно слово скажи… Вот – я одна, и ты даже не скажешь…
Она сама не знала, чего она хотела, и твердила ему, путаясь и спеша, не те слова, не то, что думала. Ей хотелось сказать, чтобы он не оставлял ее, хотелось сказать: «поедем со мной», и так странно ей было, не говорились слова. Костя нахмурился, дышал тяжело, изо всех сил старался вспомнить, что ведь все равно его в пансион… и не мог вспомнить. К нему что-то подходило – ближе, ближе, и он уже ничего не мог сделать, он закричал и заплакал, и весь съежился, и присел к маминой юбке. Мама точно испугалась, хотела приподнять Костино лицо. Но мама была не прежняя, большая мама, а такая же маленькая и беспомощная, как сам Костя, ему равная и милая, и такая же бедная, потому что ее тоже куда-то отправляли, все равно как в пансион, а он, Костя, ее обидел, лгал ей, не жалел ее, и как обидел, и как ее обидел!
Костя плакал «до дна», ему казалось, что вся его душа тут кончается, что дальше – некуда горевать и жалеть. Он плакал с отчаянием и страстью, хватаясь за мамино платье и руки, захлебываясь слезами и умоляя ее о чем-то. Он не знал, о чем.
А в конце горя была незнакомая радость. Костя чувствовал ее как раз в те минуты, когда ему казалось, что горю некуда идти дальше – такое оно сильное. Чем больше успокаивался Костя, чем крепче он держал мамину руку, тем сильнее была и радость. Мама молча гладила его по волосам, неумело поправляла воротник и, посадив большого мальчика на колени, прижала его к себе.
Костя глядел в мамино радостное, необычное лицо и улыбался, мигая длинными, мокрыми ресницами.
Легенда*
Есть уютный и милый городок недалеко от Киева. В Малороссии. Все равно как он называется, но известно, что там живут и хорошие, и дурные люди, и счастливые, и несчастные – совершенно, как во всяком другом городе.
Несчастных, вероятно, меньше, потому что, идя по тихой улице, встречаешь довольные или равнодушные лица. Люди живут мирно, друг другу не мешают, спят, кушают вволю – у кого есть что кушать – молятся Богу и уж, конечно, не ропщут на судьбу. Разве Степан Маркович после двадцатого числа вернется навеселе, – ну так Анна Тимофеевна всплеснет руками и скажет несколько раз подряд: «И какая моя жизнь! и какая моя жизнь!» Тем дело и кончится. Бедные, нищие? В городке было как-то мало нищих – только закоренелые пьяницы. Когда у человека на душе спокойно, он и неимущему скорее от достатка своего уделит: «На, мол, возьми, мне тебя жалко!» Один копеечку, другой копеечку, глядишь – и хлеба кусок, а не то и получше что-нибудь. Да и зачем нищим быть, когда в городе столько монастырей? Ведь только подумать надо – целых двенадцать. Семь мужских да пять женских. Обеднел ты, положим, нечем кормиться, а жизнь ведешь хорошую; иди в монастырь, прими послушание – о Христе все братья. Хлеба да елея не жалко, монастыри богатые, – а чем больше братий в монастыре будет, тем больше душ спасется. Жизнь привольная, спокойная, без хлопот – только утром как бы раннюю обедню не проспать.
Кто не знает мирных, длинных улиц с низенькими домиками по сторонам, с шаткими, дощатыми тротуарами, по которым спешит утром Иван Иванович в присутствие, согнувшись, с портфелем под мышкой? В синей запаске, с голыми икрами, с колеблющимся коромыслом на плечах, проходит черноглазая Устинья за водой. Как ни рано, она уже успела надеть на голову громадную шаль, свертев ее, как тюрбан. Устинья ищет, с кем бы поругаться, – и в конце концов нападает на бедных, мирных свиней, которые ходят целыми стадами, тихо бормочут что-то про себя и роются мордами в канавах, около серых деревянных тумб.
– О, да чтоб вы сказились! – кричит Устинья, махая хворостиной. – На человека лезут, прохода нет!
Отворяются окошки домиков, высовываются довольные лица обитателей, часто хозяева свиней вступают в спор с Устиньей, поругаются вдоволь и разойдутся, спокойные, к своим неспешным делам.
Через заборы видны низкорослые, крепкие фруктовые деревья, покрытые вишнями, незрелыми дулями и яблоками, а там дальше, вглубь, начинаются настоящие сады с тенистыми дорожками, с протекающей речкой или сажалкой за густым малинником. – Какая благодать! Какая тишина и отдохновенье!
На улице безмолвие. Редко проедут, и нетронутая лежит густым слоем пушистая, серая, словно бархатная, пыль. На главной улице – больше народу. Только одна эта улица имеет свое имя: она называется Мостовой. Ее когда-то вымостили, то есть положили поперек длинные доски и скрепили их между собой. Это было очень давно – некоторые доски сгнили, а другие стали прыгать под колесами, будто клавиши, на которых играют гамму.
На Мостовой помещался окружной суд и все лучшие магазины. Это были переносные магазины! В субботу все они закрывались, и тут уж ровно ничего нельзя было поделать, потому что владели ими евреи. В субботу торговал только магазин Каратаева, единственный русский, но это такой дрянной магазин, что о нем не стоило и говорить. Жена товарища председателя купила там раз шелку, и что же? Пришла домой – и моток оказался совсем не в цвет!
Судейские дамы постоянно ссорились и мирились – в этом было их главное занятие. Иначе они бы умерли от скуки. Спорили из-за платьев, из-за прислуги, из-за детей. Но и мирились они также часто, и ни одна из них не могла с точностью сказать в данную минуту, кто ей враг и кто друг.
В конце Мостовой улицы была площадь. Посередине хотели разбить сквер, и даже огородили это место деревянной решеткой, но насадить деревьев еще не собрались, и за решеткой росла только трава да высокий сизый бурьян.
IIНа самом краю площади стоял одноэтажный каменный домик с зеленым подъездом. Левая сторона домика очень странно и неправильно вытягивалась вперед, так что внутри одна комната – зала – оказывалась косой, и один угол был длинный и узкий. Зато из углового окна виднелась вся противоположная сторона площади, еврейские магазины и гуляющие на тротуаре. Маничка любила смотреть в это окно.
Маничка была старшая дочь прокурора местного окружного суда. С тех пор, как она себя помнила, они жили в этом городе и на этой квартире. Все ее братья и сестры родились здесь. Впрочем, Маничка знала, что когда-то, очень давно, когда папа был еще товарищем прокурора, а не прокурором, и она только что родилась – они жили в другом городе, в какой-то Усть-Медведице. Маничка решительно ничего не помнила из своего пребывания там, но чувствовала, что у нее есть преимущество перед братьями и сестрами, и всегда с уважением и нежностью думала об этой таинственной Усть-Медведице. Впрочем – никто не знал достоверно, что думала Маничка. Многие даже полагали, что она ровно ни о чем не думала.
Знали одно, что у Манички чрезвычайно строптивый характер и она – горе всей семьи. Папа, прокурор, высокий, с седыми бакенами и длинными вставными зубами, часто наказывал Маничку, дабы исправить ее характер. Папа не скрывал, что он наказывает Маничку. Он знал, что и председатель наказывает своего Володю, и что все отцы вообще наказывают своих детей, а главная забота папа – быть совершенно как все. Мама другое дело. Полная, мягкая, добрая, вечно в хлопотах и заботе о маленьких детях – она даже редко выговаривала Маничке. Мама часто думала с горестью и страхом о том, что она, кажется, совершенно не любит Маничку. Она считала это великим грехом и раз даже призналась священнику на исповеди. Он, однако, ей простил, только посоветовал больше молиться Богу и говеть аккуратно каждый год.