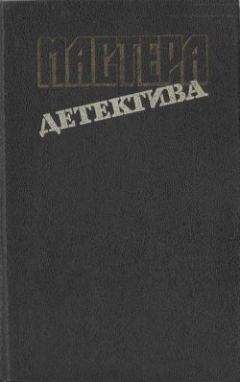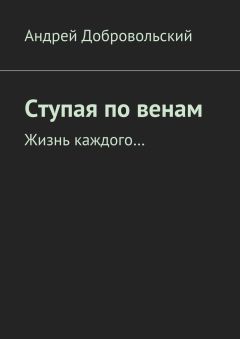Зинаида Гиппиус - Том 1. Новые люди
Костя любил рассматривать бледные, туманно-золотые города и башни, вытканные на полотне: ему говорили, что, может быть, это Киев, а может быть, и другой какой-нибудь город.
Теперь скатерть вынули, постлали на стол и расправили концы, которые падали до полу крупными складками.
Не было ни одной бутылки на столе: вино слили в резные кувшины, и посуда была не фарфоровая, а металлическая и блестела, как из настоящего серебра. Мама говорила, что она хочет сделать обед «в русском вкусе», и даже цветы, которые прислал знакомый полковник, она велела отнести в гостиную, а не ставить на стол, потому что это могло помешать стилю.
Костя ходил угрюмый среди всей этой суеты в новом костюмчике из синего шевиота.
Сначала, когда утром ему принесли новенькую курточку и штаны, он обрадовался, но потом опять нахмурился, соображая, что от этого ровно ничего не изменится. Пусть костюм новый, а все-таки через две недели его повезут в Москву – это первое, а затем еще не надо забывать, что он, Костя, до сих пор ничего не придумал и ни на чем не решил. Стало быть, и радоваться не следует.
К маминой ласковости Костя привык, принимал все как должное и даже требовал к себе внимания и угождения, потому что считал себя имеющим право на угождение.
Чуть ему казалось, что она забыла и не заботится о доставлении Косте какого-нибудь удовольствия, он негодовал, начинал капризничать, бранился или говорил все одно и то же:
– А, ты вот как!.. Вот как!.. Погоди же!.. Ты так со мной?.. Хорошо!
А что «хорошо» – Костя не знал, потому что он до сих пор не придумал, как устроить дело с папой. Знак на руке у Кости напоминал ему о клятве, и он думал о клятве, хотя, правду говоря, прежний пыль его поулегся. Иногда ему казалось, что это – урок, который нужно исполнить. А он не знает, как и приняться за него.
Наконец, стали съезжаться гости.
Дамы шумели шелком, мужчины были во фраках, а военные в полной парадной форме.
У папы из-под борта фрака выставлялся кончик иностранной звезды. Бритое лицо его было полно достоинства и приветливости.
О маме и говорить нечего. Глаза у нее сияли. И даже Костя нашел, что она хорошенькая в своем нежном платье абрикосового цвета.
В залу, где обедали, отправились попарно. Все говорили сразу и было шумно.
Папа объяснял какому-то генералу:
– Знаете, жена хотела непременно достать для этого обеда песенников и гусляров, чтобы стиль был выдержан, но в нашем городе разве отыщешь что-нибудь? Пришлось оркестр нанять.
Пока закусывали, еще не садясь за стол, Костя вертелся около мамы.
Ему казалось, что она слишком мало обращает на него внимания. Вдруг его стеснили сзади, он ступил вперед, и шлейф абрикосового платья затрещал.
Мама обернулась, вспыхнув от досады.
– Это ты, противный мальчишка? Уходи отсюда, ступай к столу! Ты мне всю оборку оторвал!
И она, отстранив его, вышла на минуту к себе, заколоть платье.
Костя побледнел.
«Ага! – подумал он. – Я противный мальчишка! Опять начинается! Ну, ладно же! Погоди же!»
Опять он сам не знал, чем он грозит, но вся его прежняя злоба поднялась в нем вместе с негодованием на мамину несправедливость. Разве это справедливо с ее стороны? Ведь она Кости бояться должна, а она вон как!
Когда сели за стол, Костю ждала новая неприятность: рядом с ним оказался Далай-Лобачевский. Опять мамино невнимание! Ведь она же знает, что он терпеть не может этого зубатого господина.
Далай-Лобачевский, впрочем, усердно занимал свою соседку с левой стороны, полную пожилую даму в сиреневом платье. Она даже не обернулся к Косте. Костю, уже сердитого, и это почему-то укололо.
Музыка играла, гости смеялись и пили, мама порхала вокруг стола, почти не присаживаясь на место. Говорили речи. Обед близился к концу. Подали десерт. Решительно мама не заботилась о Косте! Ему все подают последнему. Костя не мог этого терпеть дольше.
Мама теперь сидела на своем месте, в начале стола, недалеко от Далай-Лобачевского. Папа сидел на другой стороне, напротив.
Все занялись десертом и не так шумели. Голос Кости был слышен ясно.
– Мама, – сказал он громко, – мама, мне десерта не дают!
– Ты дурно себя ведешь, – нетерпеливо ответила мама через стол. – Если не хочешь сидеть смирно, то можешь отправляться в детскую.
Костя так и рванулся вперед и хотел еще что-то сказать, но в эту минуту Далай-Лобачевский, обнажив зубы и наклоняя их в Костину сторону, проговорил тихо:
– Ай-ай-ай, как нехорошо! Перестаньте конфузить мамашу перед гостями. Ведь ей стыдно, что у вас такие дурные манеры.
Костя действительно умолк, но не потому, что его убедили слова Далай-Лобачевского. Косте пришла блестящая, удивительная, гениальная мысль. Она пришла вдруг, и исполнить ее надо было вдруг.
Обед кончался. После взрывов хохота все на секунду замолкли, как это всегда бывает. И среди молчания раздался ясный и высокий голосок Кости:
– Мама, скажи, отчего ты папу никогда так крепко не целуешь, как Далай-Лобачевского?
Каждый хотел заговорить в эту минуту, и никто не нашел слов. И следующее мгновение было еще тише. Мама сделалась бледной до прозрачности. А Костя продолжал, «играя мальчика»:
– Ты не помнишь? В маленькой гостиной, вечером, когда папа уезжал в Хотинск? Я за книжкой пришел, а ты рассердилась…
Но гости уже опомнились. Поднялся такой шум и говор, что, казалось, никогда еще не было так весело. Мама дала знак вставать, загремели стулья, музыка опять заиграла и пары потянулись в большую гостиную.
Далай-Лобачевский подал руку толстой даме и улыбался, но Костя заметил, что его зубы точно перестали блестеть и сделались синеватыми и тусклыми.
Еще Костя заметил, что папа не остался пить кофе и ликер в гостиной, а прошел к себе в кабинет и даже не в кабинет, а в угловую, где он иногда спал.
Сам Костя отправился в детскую, смущенный, но довольный. Ему как будто стало легче. Кончено! Он отомстил! И как ловко, как хорошо все вышло! И папа слышал, и гости. Теперь довольно ей балы задавать. Больше не даст ей папа денег. Но что-то смущало Костю. Он сам не знал отчего – но ему было немного неловко.
Еще часа два или три продолжался смех и шум в парадных комнатах, а потом стало тихо, так тихо, точно весь дом умер, и даже лакеи, убирая со стола, ходили на цыпочках и не гремели посудой.
VIIК удивлению Кости, эта тишина продолжалась и на другой день.
Ида принесла чай и булки в детскую и сказала, что мама нездорова, кушает у себя, а папа уехал по делам.
Костя выслушал Иду молча, молча кончил чай и занялся склеиванием поломанной игрушечной мебели.
Завтрак ему тоже принесли в детскую, а потом пришла Поля и долго шепталась с Идой, причем Ида покачивала головой и была очень серьезна.
Прошел день, другой и третий. Ничто не менялось. В доме была глубокая, гробовая тишина, никого не принимали, да, кажется, никто и не приезжал. Папа или сидел запершись у себя в кабинете, или куда-то уезжал, а мама не выходила из спальной. Костя скучал и недоумевал, и неловкость его все увеличивалась.
Хотя в доме была полная тишина, однако все чувствовали, что это дурная тишина, и ходили на цыпочках, и говорили шепотом. На четвертый день утром Поля пришла в детскую с заплаканными глазами, опять отвела Иду в сторону и стала ей что-то говорить.
Ида всплеснула руками и так громко ударила одною ладонью по другой, что Костя обернулся. Обыкновенно он не интересовался и даже низким считал интересоваться тайными разговорами Иды и Поли, но теперь, видя на лице Иды особенно сильное выражение ужаса, он встал и подошел ближе.
Поля утерла глаза концом передника, повторив: «Так через полчаса», – и вышла.
Ида с несвойственною ей укоризной посмотрела на Костю.
– По следствию вашего неблагонравия, Herr Kosstia, папаша вашу мамашу из дома выгонил, – сказала она торжественно.
Костя раскрыл глаза.
– Это как так? Зачем?
– А затем, что вы папашу перед большим обществом в такой свет поставили и такой ему неожиданный сердечный удар причинили, что он теперь в полной невозможности с мамашей жить остаться.
– Так, значит, он уедет? Он так сердится?
– Я предполагаю, он не сердится. Он только не может продолжать… И не он уедет, потому что он не виноват, а совершенно прав, а мамаше он уезжать велел.
– Куда уезжать? На сколько времени? А денег он ей даст?
– Я думаю, мамаша уедет к своей мамаше, в большой город, а так как она не вернется, а состояния она своего не имеет, и к тому же это очень большой позор, то я и говорила вам, что по вашему злонравию папаша из дому мамашу выгонил.
И, объяснив дело, Ида сложила губы сердечком с достоинством.
Костя немного пришел в себя от изумления и стал размышлять.
– А когда мама уезжает? – спросил он, помолчав.