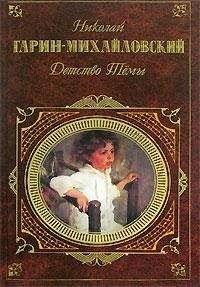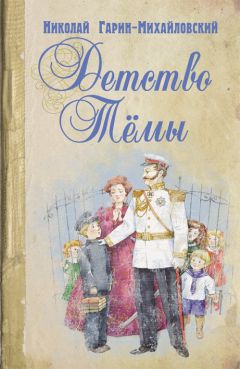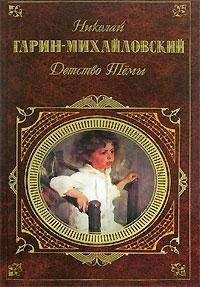Николай Гарин-Михайловский - Том 1. Детство Тёмы. Гимназисты
— У нас не спрашивали прежде.
— Странно.
Карташев все-таки уходил, а учитель, красный от досады, раздраженно сдвигал брови и еще азартнее впивался в следующую фразу книги.
— Ларио, прошу вас продолжать.
Ларио — второгодник, был весь поглощен опереткой и меньше всего думал о латыни.
— Я сегодня не могу, — вставал Ларио и садился.
— Странно. В таком случае я вам поставлю единицу.
Ларио молча изъявлял согласие, и учитель ставил единицу, опять краснел, молчал и говорил:
— Господа… я должен вас предупредить, что лица, не желающие заниматься, останутся в восьмом классе…
Но угрозы как-то не действовали.
Часто после уроков ученики наблюдали, как он, вырвавшись в коридор и приметив директора, бросался к нему и, идя рядом с равнодушно-величественным директором, начинал ему что-то горячо докладывать.
Директор пренебрежительно слушал, бросал два-три слова и уходил от учителя.
Учитель, красный и потный от волнения, спешил так же усердно назад под перекрестными насмешливыми взглядами учеников.
— Возмутительнее всего, — говорил Корнев, — что человеку всего двадцать три года… Откуда мог вырасти этакий гриб.
— Ну-у… — насмешливо кивал головой Рыльский.
— Грибы всегда найдутся, — отвечал Долба, — только потребуй.
Корнев молча принимался за свои ногти.
Однажды учитель, приносивший с собой всегда какую-нибудь новинку, явился в класс и, сделав перекличку, сдержанно заявил ученикам, что он составил список класса по степени их успехов.
— Я вас не буду утруждать чтением его всего…
Учитель нервно порылся в портфеле, достал список и прочел:
— Последними Ларио и Карташев… Я долго сомневался, кому отдать пальму первенства, и решил так: господин Ларио предпоследний, потому что ничего не знает, господин Карташев последний, потому что ничего не знает и груб.
Учитель побагровел, ноздри его раздулись, и он так спешно стал прятать свой список, точно боялся, что его кто-нибудь отнимет.
— Эка, круглый! — усмехнулся Рыльский.
— Есть недостатки более неисправимые, — ответил вызывающе Карташев, — глупость…
— Вы так думаете? — быстро поднялся учитель, — так я вас попрошу отнести эту записку к директору.
Карташев подумал и ответил:
— Я вам не обязан записок носить… Для этого сторожа есть…
— Хорошо-с, я и сам отнесу… А впрочем, для таких пустяков не стоит прерывать урок…
Учитель нервно спрятал записку в карман и продолжал урок.
— Придумает же, — пренебрежительно, подняв плечи, проговорил после урока Рыльский.
— Это как в доброе старое время записки крепостные в полицию носили… Принесет — его и выпорют.
— Карташев, к директору, — мелькнул в дверях долговязый Иван Иванович. — В учительской, — меланхолично указал он.
Карташев, оправляясь, вошел в приемную. Из накуренной учительской с папироской в зубах вышел к нему директор. Директор шел не спеша, наседая всем туловищем на толстые ноги, и спокойным взглядом мерял Карташева.
Леонид Николаевич, вошедший в это время из коридора, скучный, равнодушный, мельком посмотрел на Карташева, скользнул взглядом по директору и, не меняя равнодушно-усталого вида, прошел в учительскую.
— Вылететь вон захотелось? — равнодушно, просто спросил, подойдя, директор.
Он сделал небрежную паузу и прибавил:
— Что ж, и вылетите…
Это было сказано таким простым голосом, что Карташев ни на мгновение не усомнился, что так и будет.
— Ваше превосходительство…
Карташев знал, что директор требует такого обращения, но надеялся, что никогда не придется ему именно так величать нового директора; теперь же не только проговорил «ваше превосходительство», но проговорил так мягко и нежно, как только мог.
— Что ж «ваше превосходительство»?.. — спокойно спросил директор, ожидая, что еще скажет Карташев.
— Я очень сожалею, если оскорбил учителя… но он слишком не щадит самолюбия…
— А оно, очевидно, велико у вас, так велико, что по спискам вы оказались последним: действительно, задел самолюбие…
Директор брезгливо ждал ответа.
Карташев потупился и молчал.
— Я думаю, что мы можем договориться с вами с двух слов: первая жалоба учителя — и вас не будет в гимназии. Понятно?
— Понятно, — прошептал Карташев.
— Ну, и марш!
— Что? что? — посыпалось на Карташева, когда он вошел в класс.
— Ничего, — пожал плечами Карташев, — сказал, что выгонит.
Карташев сел и безучастно задумался. Хорошего было мало: если не выгонят, то срежут; и, несмотря на это сознанье, он чувствовал какую-то роковую неспособность переломить себя и засесть за эту проклятую латынь.
Другой приговоренный, Ларио, был, напротив, весел и беспечен, он напевал из оперетки и с треском передавал содержание пикантных мест ее.
— Да-с, — многозначительно протянул Корнев, косясь на Карташева, — вы все-таки, господа, того… ухо востро держите… вы тоже, signior Ларио… Смотри: опять застрянешь.
Он любовно, добродушно хлопнул по плечу Ларио.
Ларио нетерпеливо дернул плечом.
— Начхать…
— Эх, ты…
— Да, уж вот такой, как есть: что люблю, то люблю, чего не люблю — извините…
Ларио сделал комичный жест и, скорчив отчаянную физиономию, крикнул бодрясь:
— Кто со мной в оперетку?
— Да брось ты свою оперетку, — отвечал лениво Корнев.
— Вася, не фальшь! Говоришь не то, что думаешь: дай себе отчет. Стой! зачем бросить?
— Разврат же…
— То есть в чем?
— Ну, точно не знаешь? чуть не голые выходят на сцену…
— Врешь… выходят в древних костюмах… Чем же бедненькая Еленочка виновата, что тогда так ходили… Постой… Ты классик? Ну, и должен ей сочувствовать. Да, наконец, отчего же и не посмотреть это самое декольте? Я не знаю, как ты, а я во~ какой корпуленции и в монахи не собираюсь.
Ларио конфузливо щурился и, маскируя неловкость, пускал низкие ноты «хо-хо-хо!».
— Рыло, — задумчиво хлопал его по брюху Корнев, в то время как компания смотрела на Ларио с каким-то неопределенным любопытством.
— Вот те и рыло… Мне, батюшка, жена самонастоящая и то впору, а ты рыло.
— Пожалуй, и от двух не откажешься, — весело подсказал Долба.
— Черт с ними, давай и две.
— Действительно, в сущности… — говорил Корнев, любуясь сформированной широкоплечей фигурой Ларио.
Ларио быстро поворачивался, хлопал себя наотмашь и спрашивал:
— Il у à quelque chose, messieurs, la dedans, n'est-ce pas?![61] А ты с латынью да с экзаменами… Всякому овощу свое время… Тятька-покойник, пьяница и николаевский полковник…
— Ох, черт!
— …никак не мог понять, отчего я пареной репы не любил: так и умер с тем, что не понял… Бывало, бьет, как Сидорову козу: «Ешь, подлец, репу!» — «Не бу-ду есть ре-пу!» Так и умер. Умирая, говорит: «Драть тебя некому будет».
Учитель словесности окончательно свалился и умирал от чахотки, лежа один в своей одинокой квартире.
— Жаль человека, — говорил Рыльский, — а все-таки кстати.
— Ох, зверь человек! — улыбался Корнев на замечание Рыльского.
— А что бы он с нами на экзамене сделал?
— Да бог с ним, — пусть умирает.
Новый учитель, молодой бесцветный блондин, мял, тянул, выжимал из себя что-то, и дальше биографий не шел.
— В сущности, жаль все-таки, что Митрофан Васильевич свалился, — говорил Корнев, — ну, перед экзаменами бы еще так и быть…
— Жаль, жаль, — соглашался Долба, — в прошлом году он обещал коснуться разных веяний.
— Положим, судя по началу, вряд ли бы удалось ему в нынешнем году…
Корнев лениво вытянулся и сладко зевнул.
— Черт его знает, тощища какая… Гоголь был сын, Пушкин был сын… Ах, ты сын, сын — тянет, тянет, душу всю вымотает…
Невесело было и на уроках истории. Леонид Николаевич ходил скучный и неохотно вступал в какие бы то ни было разговоры. И у учеников стал пропадать вкус к ним.
— Черт его знает, старше становимся или глупеем, — сомневался Корнев.
Было ясно одно: гимназия делалась все больше и больше чужой. Там, в темных коридорах младших классов, кипела жизнь, раздавался визг и хохот, но знакомую читателю компанию уже не манила эта жизнь, и, сонная, равнодушная, она тянула время, как бы говоря своими апатичными, скучащими фигурами: лишь бы прошел день до вечера.
Чтение как-то тоже не шло на ум.
Карташев часто, лежа на диване, думал и копался в себе: что его интересует?
Уроки? К ним, кроме смертной тоски и томления ничего не ощущалось. Чтение? Прежде он любил его, чувствуя какую-то новую почву. И пока эта почва чувствовалась, и чтение было интересно. Но эта почва как-то ускользнула, что-то, какая-то связь точно порвалась: книга осталась книгой, а жизнь пододвинулась и во всех своих проявлениях так не схожа с книгой, что, очевидно, книга одно, книга — дело рук неопытного идеалиста, а жизнь имеет свои, совсем какие-то другие законы. С одной стороны, что-то тянуло к этой жизни, тянуло мириться с ней, приспособиться к ней, с другой — было скучно и уж не было того идеального чувства ни к жизни, ни к матери, какое было раньше, несмотря на всякие споры и протесты и его и ее. Теперь и споров почти не было, — было просто равнодушие, апатия и сознание, что мать такой же человек, как и все. И от этого сознания делалось еще скучнее, и Карташев тревожнее рылся в себе и искал своих желаний. Может быть, он хочет любить? Нет, он никого не любил и не хотел любить. Прежде он хотя лакомства любил, — теперь и их разлюбил.