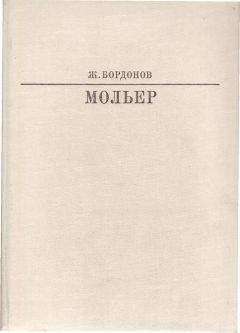Николай Почивалин - Когда идет поезд
В директорском кабинете и в просторной приемной, где собирались будущие члены президиума юбилейной сессии городского Совета - депутаты и многочисленные гости, было людно, шумно. Как на вокзале, знакомясь и пожимая десятки рук, Михаил Петрович снова почувствовал себя неуверенно: запомнить всех, к сожалению, не было возможности.
Сколько же, оказывается, замечательных людей вышло из Пригорска! Только что представленный знаменитой летчице, с первыми полетами которой невольно связывались воспоминания о собственной комсомольской юности, уже через секунду Михаил Петрович знакомился с прославленным китобоем, затем - с медицинским светилом, имя которого с уважением произносится во всех академиях мира. Прямо тут же, в толчее, обнимались - да так, что у них, должно быть, трещали кости - два помальчишески взъерошенных и одинаково седых генерала, живших когда-то в Пригорске на одной улице, воевавших на разных фронтах и снова через много лет встретившихся на юбилее родного города... Мелькали ряды орденских колодок, золотые звездочки Героев, алые флажки депутатских значков, - чуточку оглушенному Михаилу Петровичу начинало казаться, что ему, человеку по природе простому, лучше бы, пожалуй, находиться сейчас не здесь, среди этого шума и блеска, а в общем зале. С этими мыслями, хмуря черные косматые брови и пряча под ними растроганные, чуть растерянные глаза, Михаил Петрович двинулся вслед за другими в президиум.
Волнуясь, молодой симпатичный председатель горсовета, с которым Михаил Петрович познакомился еще на вокзале, объявил юбилейную сессию открытой, зал поднялся навстречу "Интернационалу".
- Внести в зал почетные знамена, - высоким ломким голосом подал команду председатель горсовета, - ордена Ленина завода... ордена Боевого Красного Знамени завода... ордена Красной Звезды завода, ордена Трудового...
Величаво, снова подняв всех с мест, запели серебряные трубы - над залом, по широкому проходу, поплыли развернутые бархатные знамена с прикрепленными к ним орденами - свидетели ратных и трудовых подвигов пригорцев. Последним, огражденное холодными молниями обнаженных шашек, проследовало знамя высшего военного училища. За долгую театральную жизнь Михаил Петрович привык ко всяким сценическим эффектам, но это было другое. В гулкой, натянутой как струна тишине, четко печатая шаг, шла сама жизнь, ее высокий символ, ее крылатая романтика, - и у него, старого воробья, по коже поползли мурашки...
Стопа приветственных адресов и горы памятных подарков на столе президиума все росли, на трибуне один выступающий сменялся другим, и хотя Михаил Петрович слушал, по-прежнему стараясь не пропустить ни одного слова, внимание его ослабло. Устав от всех треволнений сегодняшнего длинного и все еще не кончившегося дня, от яркого слепящего света, которым киношники и телевизионисты безжалостно били по первому ряду президиума, Михаил Петрович оказался застигнутым врасплох, когда слово предоставили ему. Простые слова, недавно сами, кажется, просившиеся наружу, исчезли, первые подвернувшиеся были стертыми, бесцветными; произнеся их таким же, казалось, бесцветным тоном, Михаил Петрович вернулся на место, удивляясь, почему ему так горячо аплодируют, и нисколько не беспокоясь.
Свое слово он скажет позже...
Торжественная часть несколько затянулась, и, когда юбилейное заседание объявили закрытым, предупредив, что после перерыва будет большой праздничный концерт, зал довольно загудел.
На время перерыва Михаил Петрович уединился в любезно предоставленной ему театральной уборной - и для того, чтобы переодеться, и, главное, для того, чтобы побыть перед выступлением одному.
Когда он спустился вниз, привычно ощущая подбородком тугой, накрахмаленный воротник, огромная сцена была уже заполнена сводным городским хором. Раздольно парила в зале величальная, созданная местными поэтами и композиторами песня, - чуткий на все настоящее, Михаил Петрович застыл на месте, довольно насупив брови. Зал загремел. Обдав Михаила Петровича ветерком белых платьев, с раскрасневшимися щеками пронеслись мимо хористки; юный девичий голос звонко выкрикнул его фамилию.
Легкий знакомый холодок коснулся сердца, - это был своего рода сигнал готовности. Михаил Петрович вышел на сцену. Чепуха, будто, привыкая, артист перестает волноваться: не волнуется только абсолютная бездарность.
"Петуха бы не дать!" - с веселым испугом подумал Михаил Петрович, внешне очень спокойно и сдержанно поклонившись на встретившие его аплодисменты.
Чуть подвинув высокий стебель микрофона, Михаил Петрович взглянул на переполненный зал и глубоко вздохнул. Необъяснимое и сильное, как поток горного воздуха, чувство переполнило его. Чувство общности, кровного родства со всеми, кто сидел в этом зале и чутко, доброжелательно ждал его песни. Он не знал, как будет петь, но знал, что будет петь не так, как всегда...
- Ария Игоря из оперы "Князь Игорь"...
Могучий бас, неся всю сложнейшую гамму человеческих переживаний, - то гордый и суровый, как откованный булат, то мягкий, как закатное русское небо, наполненный тоской и порывом, - царил под сводами, больно и сладко сжимал сердца.
Зал еще неистовствовал, когда звонкий девичий голос объявил следующий номер:
- "Уж как пал туман", народная песня...
Михаил Петрович пел, не следя ни за голосом, ни за словами песни, - он просто, как воздухом, дышал ею, и песня сама, как воздух, могуче и естественно выливалась из его горла, легких, сердца. Это были золотые минуты творческого взлета.
- "Дубинушка"...
Зрители еще не успевали полной мерой наградить исполнителя за одну песню - взорвав тишину, овации только нарастали, - как он, словно щедро спеша вернуть старый долг, начинал новую. Изумленный подобной расточительностью аккомпаниатор остро блестел стеклышками пенсне, поспешно раскладывал новые нотные листы.
Михаил Петрович никогда не берег голоса за счет сокращения концертных программ, и, наверное, потому голос его так долго служил людям. Оглянувшись и коротко кивнув пианисту, он начинал снова, не делая ложных, чтоб получить дополнительную партию аплодисментов, уходов, - ему было это без надобности...
Всему, однако, есть мера. Понимая, что нельзя до бесконечности злоупотреблять безотказностью певца, зал рассыпался дружными аплодисментами, благодарственными хлопками. Михаил Петрович дотронулся платочком до усталых, пересохших губ и, покосившись, - его юная звонкоголосая помощница, считая, что выступление закончено, азартно колотила в ладоши вместе со всеми, - сам объявил:
- "Элегия" Массне. - Глубоко вздохнув, он помедлил, негромко добавил: Посвящаю ее всем сидящим в зале и еще одному человеку, которого тут нет...
Раскланявшись было, аккомпаниатор снова сел, судорожно залистал ноты.
Тишина бывает разная: настороженная, равнодушная, доброжелательная. Мгновенно установившаяся в этот раз тишина была особой: глубокая, живая, вся пронизанная волнами, которые шли от певца к людям и снова возвращались к нему же, - просто, как луч солнца входит в голубизну воздуха, влился в нее задумчивый, наполненный чувством голос:
Ах ты, весна прошлых лет
Время любви.
Исчезла ты для меня...
Вся колдовская сила этой вещи - не в словах, предельно бесхитростных, если не сказать больше, а в музыке; должно быть, все самое сокровенное вложил в нее давно ушедший из жизни француз, если и ныне заблестели глаза певца и притих, подавшись вперед, огромный, переполненный зал.
Вновь не вернется весна, - скорбел о минувшем, раздумывая и вспоминая, голос и ликовал, что оно, это прошлое, было... Михаил Петрович пел, видел сотни устремленных на него взглядов, видел, как, прижав к груди руки и неловко наклонившись, слушает знаменитая летчица, как, нахохлившись, притихли еще недавно шумно обнимавшиеся генералы. Но ему, изпод добрых косматых бровей, виделось еще и другое:
старый дом на Нагорной, в котором, моргая мокрыми ресницами, сидит у освещенного экрана телевизора его шестидесятилетняя Таня...
5. ОТГОЛОСКИ
В устоявшемся дорожном быте завтрак и обед в вагоне-ресторане событие, которого ждешь и к которому загодя готовишься: надо побриться, сменить пижаму на костюм, тапки на ботинки - не куда-нибудь, а в ресторан все-таки! И идешь, нетерпеливо и довольно пощелкиваяпохлопывая открываемо-закрываемыми дверями.
Несмотря на довольно ранний час, в салоне нынче оживленно: ночью, судя по всему, на какой-то станции получили пиво, и тощие вагон-ресторанные шницели на белых столиках окружены частоколом "жигулевского".
Не особенный любитель пива и еще меньше знаток его, я, однако, тоже попросил бутылку: мало-мальски приличного вина в буфете не было, заказывать же обед без каких-либо добавлений - почувствовать себя в глазах обслуживающих явно неполноценным. Подобным же, вероятно, любителем оказался и мой сосед напротив - плотный рыжеватый мужчина, с колючими неприступными бровями: перед ним также стояла одинокая бутылка.