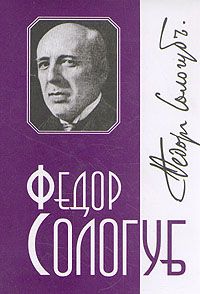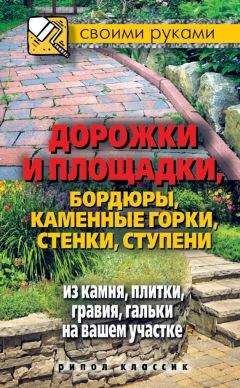Федор Сологуб - Том 5. Литургия мне
И Александре, обычно сдержанной, на этот раз захотелось спорить с самодовольною немкою. Злое чувство закипело в ней, когда она сказала голосом, более резким, чем бы она сама хотела:
– Никто не станет разрушать Берлина, хотя это и очень неприятный город, тяжелый, безвкусный.
Екатерина Сергеевна укоризненно посмотрела на дочь.
– О, Берлин – лучший город в свете! – уверенно сказала Нахтигаль.
– Нy, можно ли его сравнить с милым Парижем! – воскликнула Александра.
Екатерина Сергеевна хотела было унять дочерей, но имя Парижа навеяло на нее много сладостных воспоминаний. Она сказала:
– Ах, кто же сравнивает! Париж, конечно, единственный город. Вы меня извините, Берта Францевна, но Париж вне всяких сравнений.
Щеки Нахтигаль покрылись кирпично-красными пятнами. Она заговорила, волнуясь:
– Я не могу с вами согласиться, Екатерина Сергеевна. Париж – неопрятный город. Там по улицам везде бумажки валяются. Там везде ужасный разврат. Берлин гораздо лучше, чище, наряднее. Если вы хотите за границей купить на ваши деньги что-нибудь дешево, модно и хорошо, то вы можете сделать это только в Берлине, где вы найдете такой магазин, как Вертгейм? (Она сказала по-берлински Вертайм).
– У меня такое впечатление, – сказала Раиса, – что в Берлине дома довольно хорошие, а одеты берлинки очень странно, совсем безвкусно.
Нахтигаль говорила сердито:
– Я не понимаю, как можно не восхищаться таким городом, как Берлин! После этого вы можете сказать, что и Бисмарк не был очень великий человек!
Раиса, вся раскрасневшись, сказала запальчиво:
– Бисмарк был грубый и жестокий. Только в нем хоть то хорошо было, что он России боялся.
Екатерина Сергеевна посмотрела на нее с укором. Нахтигаль пришла в ярость и закричала:
– О, пфуй, пфуй! Так говорить о таком великом человек, как Бисмарк! Бисмарк не мог бояться, он никого не боялся, это был железный человек, но он делал политику и не хотел ссориться со всеми.
XVIIIНахтигаль так увлеклась своим яростным криком, что только тогда заметила вошедшего Буравова, когда хозяйка обратилась к нему со словами привета. Нахтигаль смущенно замолчала. Буравов был один из немногих русских, к которым она чувствовала уважение, может быть, за то, что он довольно долго жил, в свои учебные годы, в Германии и имел там немало друзей среди ученых и литераторов. Нахтигаль старалась теперь говорить особенно любезно с Буравовым. Но все же видно было, что она очень рассержена.
Александра внимательно смотрела на родителей и на Буравова. Ей хотелось проверить кое-что. Да, как всегда, при виде Буравова мать стала особенно оживленною и словно помолодевшею, а у отца стали грустными глаза, правда только на одну минуту; потом они опять приняли обычное спокойное и мужественное выражение.
Нахтигаль, любезно улыбаясь Буравову, говорила:
– Павел Дмитриевич, вы – такой умный человек, скажите ваше мнение об этой ужасной войне.
Буравов поглядел на нее с сочувствием, пожал ее руку и сказал утешающим голосом:
– Берта Францевна, вы взволнованы? Я так понимаю, – надеюсь, здесь все понимают ваши чувства. Но Россия воюет не с германским народом, а с тем милитаризмом, который так вреден для самой Германии.
Нахтигаль казалось, что можно было бы в более определенной форме выразить сочувствие Германии. Но она не решалась спорить с Буравовым и повторяла нерешительно:
– О да, такая война, такая ужасная война!
– Вот, Павел Дмитриевич, мама хочет уехать, а мы не хотим, – сказала Раиса.
Екатерина Сергеевна поглядела на него вопросительно, и он, отвечая на ее взгляд, сказал:
– Конечно, уезжайте. И я непременно уеду при первой же возможности. Если я еще здесь, так только потому, что не достал билета. На вокзале ужас что творится! Все торопятся уехать во внутренние губернии. Но уж я решил ехать на автомобиле.
– Счастливец! – с завистливым вздохом сказала Екатерина Сергеевна.
Она уже знала, что за автомобиль берут очень дорого, и не хотела тратить таких денег: содержание семьи и так стоило много, и от генеральского жалованья мало что оставалось.
– Если хотите, – сказал Буравов, – я и вас возьму с собою.
Екатерина Сергеевна нерешительно взглянула на мужа.
– Спасибо, Павел Дмитриевич, – просто и спокойно сказал Старградский.
Александра почувствовала, что ей хочется плакать. Она поспешно подошла к окну.
Екатерина Сергеевна, глядя на Буравова вдруг заблестевшими глазами, говорила:
– Ах, я так буду вам благодарна!
Раиса грустно подумала, что опустеет этот милый город и в саду не слышно будет милых голосов. И что же будет? Придут враги – разрушать и жечь.
Нахтигаль неприятным голосом старой, придирчивой гувернантки говорила:
– Я не понимаю, зачем уезжать! Немцы – такой культурный народ, они ничего худого никому не сделают.
– Однако на Бельгию напали и ведут себя там, как гунны, – сказала Раиса.
Нахтигаль глядела на нее со злостью, и глаза ее горели по-змеиному, когда она говорила:
– Это есть политика, и мы тут ничего не можем понимать. И особенно молоденькие девушки ничего не могут понимать в политике. Это не дело женщин – заниматься политикой. Женщина должна знать только церковь, кухню и детей, – и этого с нее довольно во всю ее жизнь!
Расходилась сердитая немка и стучала по столу кулаком.
– Так думают в Германии, – отвечала Раиса. – У нас, в России, думают иначе.
– Раиса, не спорь, – строго сказала мать.
Раиса замолчала. Меж тем Буравов рассказывал генералу про свой автомобиль.
– Конечно, плохенький, но до Москвы как-нибудь доберемся. Просили полторы тысячи, чтобы только довезти до Москвы. Я предпочел купить его. Заплатил семь тысяч. Зато он мне и в Москве будет служить.
– Мама, – тоскливо спросила Раиса, – так ты непременно хочешь ехать?
– Конечно, поеду.
Буравов подробно и красиво, с настоящим ораторским подъемом, стал доказывать, что в такое время надо объединиться, и что для этого надо быть ближе к центру.
– Здесь, – говорил он, – мы никому не можем принести никакой пользы в этой сумятице. Здесь совершенно достаточно местных сил. Мы будем гораздо полезнее во внутренних губерниях, где можно организовать помощь семействам запасных. Вообще в эти тяжелые дни общество должно сплотиться.
Старградский слушал его со спокойным, слегка грустным вниманием.
– О да, вы, конечно, совершенно правы, – говорила Екатерина Сергеевна. – И я с вами совершенно согласна.
«Как всегда!» – печально подумала Александра.
XIXСтали собираться городские знакомые проводить генерала на поезд. Были здесь Уэллер и Дюбуа с сестрою. В гостиной стало шумно, здесь и там вспыхивали разговоры, как всегда в таких случаях, отрывочные и беспокойные.
За окном опять слышны были музыка и пение.
Мари, с цветами в руках, подошла к генералу и смотрела на него влюбленными глазами.
Старградский, улыбаясь ей ласково, как дочери, смотрел на ее раскрасневшееся лицо и говорил:
– Милая Мари, вы опять балуете меня…
С трепетною ласковостью Мари говорила:
– О, пусть эти цветы будут с вами в вагоне. Я донесу их до вагона. Можно?
– Спасибо, милая Мари!
Раиса откровенно-влюбленными глазами глядела на Уэллера и спрашивала:
– Отчего же вы и Дюбуа не на службе? Ведь сегодня не праздник.
У нее еще была надежда, что слух не верен, и что Уэллер не идет в добровольцы. И в то же время она знала, что ей будет очень горько, если окажется, что Уэллер и не думал поступать в русскую армию.
Ужасом и счастьем затрепетало ее сердце, когда она услышала радостные слова Уэллера:
– Я пришел проститься. Сегодня уезжаю, в одном поезде с вашим отцом.
Улыбаясь сквозь слезы, Раиса говорила:
– Вот уж этого я от вас не ожидала! Вы – такой рационалист, и вдруг поступаете, как экспансивный русский студент.
– Так это правда? – спросила, подойдя к ним, Александра.
– Да, – сказал Уэллер, – меня и Дюбуа взяли добровольцами. Я так счастлив! Не все считать чужие деньги.
– Я думала, вы – такой спокойный и расчетливый, – улыбаясь, говорила Александра.
– Расчетливый потому, что коммерсант? – спросил Уэллер. – Да, я – коммерсант по призванию, стало быть, любитель риска. А война – наивысший риск. И, прежде всего, я – англичанин, и потому люблю спорт, борьбу и не бегу опасностей.
Мимолетная тень пробежала по лицу Раисы. Александра поняла, что смутило ее в словах молодого англичанина, и спросила нарочно, чтобы дать ему возможность объяснить свою мысль:
– Только потому и пошли на войну?
Уэллер усмехнулся.
– Потому я решился. А захотел я потому, что это – война за правое дело, великая, святая война. А вы, Раиса, что мне скажете сегодня?