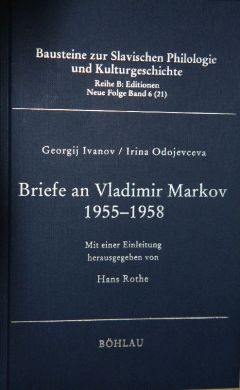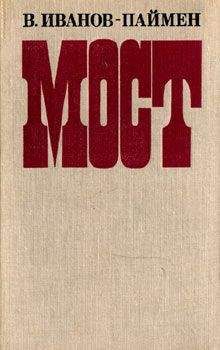Александр Герцен - Том 5. Письма из Франции и Италии
Они хотели монархической республики, они хотели пасти народ и заставить его склонить свою выю под иго Собранья – им удалось. Народ вместо воспитания – отброшен назад, монархический принцип укреплен, он тверже, нежели был при Людвиге-Филиппе, потому что покрыт именем республики. И почему мы знаем, какими кровавыми испытаниями придется пройти Франции, чтоб снова попасть на путь истинного развития – если она выйдет на него!
Не думайте, что Временному правительству недоставало совета, предостережения – c 1 апреля Прудон в каждом листе своего «Représentant du Peuple», Торе и Пьер Леру в своем журнале кричали правительству, просили его, указывали ему, в какую пропасть оно идет. Правительство не слушалось. –
Мученики времен Людвига-Филиппа начали возвращаться из тюрем и ссылки, в их главе были две знаменитости: Барбес и Бланки. Барбес, этот баярд демократии, которого голова была уже обречена плахе, явился к Ламартину, дружески протягивая руку, – он попусту ее никогда не протягивал. Он хотел работать для водворения республики и приносил в помощь правительству совет закаленного демократа, огромный авторитет в радикальной партии, – авторитет, основанный на безусловной чистоте характера. Барбес, так величественно и гордо являвшийся перед судом Камеры пэров, напоминал своей самоотверженной и непреклонной натурой, своей доблестной наружностью мучеников первых веков христианства. Он беззлобен и юн душою вышел из мрачного заточения и спокойно продолжал путь, начатый с Годефруа Каваньяком. Содействие и помощь такого человека была первой важности для правительства. Но не менее важен был и Бланки.
Бланки – человек совершенно противуположный Барбесу. Сосредоточенный, нервный, угрюмый, изуродованный телесно страшным тюремным заключением, полный невероятной энергии и желчевой злобы – он имел большое влияние, опертое на проницательность, на глубокомысленный взгляд и на необыкновенный дар слова – резкий, страстный, проникающий в душу слушателей. Его меньше любили, нежели Барбеса, но не меньше слушались. Он не имел ни его теплой экспансивности, ни его настежь отворенную душу; но мысль его была и глубже и упорнее, никто не сомневался в его таланте. Он мог быть вреднее и опаснее Барбеса – но он мог также принесть величайшую пользу правительству – и он явился к Ламартину, предлагая содействие и советы. – Недели через две оба отошли, качая головой, оба увидели, что с этими людьми ничего не сделаешь, что они погубят революцию. Точно так поступил Собрие, молодой, богатый человек, душою преданный республике и демократии; Собрие, действовавший 24 февраля и завладевший сначала вместе с Косидьером префектурой полиции, пробовал остаться в сношениях с правительством, не мог и с негодованием оставил его. Он теперь вместе с Бланки и Барбесом в Венсенне. Главы социализма и не сближались с децемвирами. – Прудон, Кабе, Распайль, Пьер Леру – стояли поодаль. Все эти люди неутомимой деятельности, беспредельной преданности бросились на иную дорогу, на деятельность в клубах, на издание журналов. Сначала ни клубы, ни журналы не разрывались вполне с правительством. В речах и статьях – правительство щадили, хотели его напутствовать, мечтали, что это возможно. Правительство с своей стороны отвечало дружески на увещания клубов, не сердилось, не щетинилось за советы, за выражения – как впоследствии. Долго это не могло оставаться, надобно было иметь невероятную доверчивость или близорукость, чтоб не заметить, как правительство с каждым днем отклонялось далее и далее от всего провозглашенного в первые дни после революции. Недоставало внутреннего раздора, чтоб показать всем сомневавшимся, сколько почвы приобретено уже было реакцией. Этот раздор не замедлил явиться; поводом к нему были циркуляры Ледрю-Роллена и его бюллетени, испугавшие буржуази, а с нею вместе и консервативное большинство Временного правительства. – Прочтите эти циркуляры, эти бюллетени и подивитесь, о чем так шумели мещане. Ничего не могло быть естественнее, как посылка комиссаров в департаменты. Пославши их, еще естественнее было дать им наставления, – дух этих наставлений должен был быть революционный, он умерен, тих, но сообразен обстоятельствам, на них наклепали бог знает что, я нигде в них не вижу ни террора, ни призыва к восстанию, а вижу желание растолковать департаментам смысл переворота и логическое стремление способствовать, чтоб монархический принцип заменили республиканским, чтоб выборы пали на людей демократического образа мыслей. Ледрю-Роллен был прав, говоря, что правительство относительно выборов не должно играть роль писца, помечающего голоса, но стараться пояснить, чего оно надеется от представителей; последствия показали, что значат хаотические, бессмысленные или ретроградные выборы, последствия совершенно оправдали Ледрю-Роллена. Добросовестно, честно невозможно порицать действий министра внутренних дел, буржуази порицала их, потому что она вовсе не хотела республики или хотела одного имени. Циркуляры Ледрю-Роллена удивили среднее сословие и испугали, они видели, что министерство внутренних дел принимает республику au sérieux[339]. С своей стороны бюллетени бесили не менее циркуляров. Бюллетени представляли живой разговор правительства с народом, имионо сообщало новости, опровергало ложные слухи, делало пропаганду, поучало; некоторые из них были писаны великим пером Ж. Санд – в них веет демократический дух, они обращались к работникам. Негодование буржуази начало высказываться сильнее и сильнее и нашло поддержку – где же? В самом правительстве. Известная демонстрация по поводу отмены меховых шапок была направлена против Ледрю-Роллена. Ламартин публично говорил, что правительство не хочет иметь никакого влияния на выборы, оставляя таким образом всю ответственность Ледрю-Роллену; буржуази в ретроградных журналах превозносила Ламартина, лукаво сравнивая подкупы и грубое вмешательство власти в дела выборов при Людвиге-Филиппе с распоряжениями Ледрю-Роллена, как будто право учить, объяснять, иметь влияние убеждением открытой речью похоже на подкупы и взятки. Видя такую слабость правительства и предчувствуя, как ретроградная сторона воспользуется уступками, клубы решились с своей стороны сделать демонстрацию на другой день меховых шапок. Двести тысяч человек вооруженного народа правильными колоннами, с знаменами клубов сделали 17 марта грозную и спокойную прогулку по Парижу. Несмотря на величайший порядок, на величавую тишину, едва перерываемую выразительным пением «Марсельезы» – буржуази до того была испугана количеством людей и их видом, что опять исчезла на целый месяц и, продолжая свою темную работу, не выставлялась с своими реакционными требованиями. В этот месяц можно было наделать чудеса, – демократическая партия не умела им воспользоваться, правительство не хотело. Двести тысяч человек, вооруженных и готовых на бой, приходили ободрить правительство, поддержать его, если оно только пойдет путем революции, если оно только хочет республики. Народ и клубы – словом, Париж – подавал свой голос в этот день за циркуляры Ледрю-Роллена, за республику – правительство получало новую санкцию, становилось вдвое сильнее, второй раз облекалось диктатурой, – но оно смотрело уже в другую сторону, хотя и отвечало словами замечательными: «Proclamé sous le feu du combat, le gouvernement a eu hier ses pouvoirs confirmés par les deux c<ents> milles citoyens, qui ont apporté, par leurs acclamations à notre autorité transitoire la force morale et la majesté du souverain». Говоря это, Ламартин и Марраст копали яму этому народу, один из робости, по неловкости, другой из видов грязных, мелких, личных; им помогали пять товарищей, взятых из «Насионаля». Но, обвиняя правительство, мы не можем оправдать нисколько клубы и их вожатых, – чего они смотрели, имея такую силу в руках? Парижский народ обещал пожертвовать республике три месяца голода, он обещал дожидаться – но зато хотел демократической республики. Как же они не видали сначала, что правительство пятится и возвращается к буржуазной монархии? Когда они спохватились – было поздно. Мирная, но энергическая демонстрация 16 апреля была иначе принята правительством, нежели демонстрация 17 марта. Работники, желая снова показать реакционерам, что они не утратили энергии, собирались на Champs de Mars, они были без оружия. Вдруг раздался сбор по всему Парижу – Национальная гвардия бежала отовсюду, вооруженная с ног до головы, банльё входила во все заставы. В мэриях раздавали боевые патроны. Более ста тысяч штыков окружили Hôtel de Ville и Люксембург – все спрашивали, где восстание, где враг. Удивленные и обиженные работники, которых месяц тому назад Временное правительство благодарило и перед которыми преклонялось, желали знать, откуда вышел приказ бить сбор, и узнали, что первая мысль вышла из Hôtel de Ville, т. е. от Марраста. Марраст, спрятанный в ратуше и не выступавший особенно вперед, был душою реакции и интриг; окруженный своей тайной полицией, он стращал робких децемвиров и упрочивал свои связи. Национальная гвардия шла с криком: «Vive la République, à bas les communistes, à la mort les communistes!» Этот отвратительный крик был суфлирован Маррастом через мэров. Под словом «коммунисты» разумели теперь всех демократов, всех социалистов, всех бывших на демонстрации Champs de Mars. Весьмавероятно, что соприкосновение таких двух масс народу и с таким враждебным направлением не прошло бы даром, – были люди, которые хотели кровавой стычки, так, как они ее хотели 15 мая, так, как они ее подготовили к Июньским дням, – по счастью, Национальной гвардией командовал благородный старик, некогда легитимист, потом откровенный республиканец – генерал Курте. Работники требовали у правительства объяснения, правительство путалось, благодарило Национальную гвардию за ее готовность, благодарило работников за то зло, которое они не сделали и которого никто не хотел. Марраст уверял, что вся цель правительства «окончить эксплуатацию человека человеком». Но народ расходился мрачно, недоверие и злоба распространялись, две республики померились, – «Oh, que l’avenir est menaçant, – писал Пьер Леру, – puisqu’il y a dès aujourd’hui deux républiques en présence» (lettre à Cabet)! –