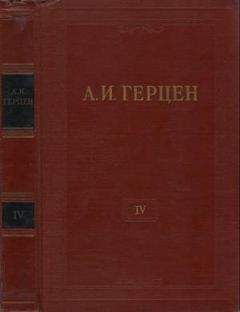Александр Герцен - Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник
«Зачем иностранцы нас не понимают, зачем смотрят враждебно, зачем мало занимаются нами etc.?» Да зачем мы сами не более 15 лет стали заниматься собою как самобытными, да зачем, начавши собою заниматься, вывели одни нелепости? Заниматься кем-нибудь тогда только можно, когда он стоит этого. Европа очень занимается нашей силой, потому что она в ней видит мощного раба под влиянием розги и бича, который готов на время разрушить великие плоды веков; Европа tacitement[412] стоит под одним знаменем от Кенигсберга до Дублина, разногласия их – частные вопросы, но есть лабарум, около которого все народы готовы были бы соединиться (исключая, может, часть Австрии).
С другой стороны, они видят знамя, прямо противуположное, – написавшее яркими буквами «самодержавие»; они должны ненавидеть стан врагов и тот народ, который готов идти на гибель народам.
11. Когда при возрождении наук явилась древняя гуманная цивилизация, весь средневековый мир испытал то, что русское государство испытало при принятии западной цивилизации. Иная, вполне развитая мысль внедрялась в Европу католическую и сочеталась с нею, – к нам так явилась мысль европейская.
14. Вчера в 10 минут двенадцатого родилась малютка. Страдания были велики, но веры больше, нежели те раза. Рождение малютки – потрясающий религиозно-физический акт, люди со слабыми нервами не могут присутствовать при страданиях женщины; очень вероятно, я вовсе не подвержен нервным припадкам, но и то чувствую, что еще немного – и волнение сделается не по груди, т. е. сильнее сознания. Особенно минута рождения, первого крика – как будто что-нибудь обрывается в груди, может, это магнетическое соотношение с родильницей. Итак, дочь! Мне хотелось дочь; если наша семья не уменьшится, останется так, как есть, пожалуй, и не увеличится – она как-то теперь цела, замкнута. Надобна была девочка, чтоб в ней повторилась мать, чтоб был элемент des Weiblichen[413], мягкости, кротости. Если б я мог быть счастлив в одном домашнем счастии, если б я имел эгоизм людей, называемых добрыми отцами семейств, я был бы вполне счастлив. И теперь, когда черные мысли о безвыходности, о бездейственности, о утрате всех упований найдут на душу, одно утешение – семья и двое, трое друзей. Оно врачует – это правда, но врачевание есть само по себе акт скорбный и пр.
Сегодня 19 лет знаменитому 14 декабря.
16. Давно, а может и никогда, я не испытывал такого кроткого чувства спокойного обладания счастием очага своего, как ныне. Правда, торжественна была минута рождения Саши, но наша неопытность повергала нас в беспрерывный страх. Этот страх только развился от несчастных случаев, и когда родился Николенька, я ничего не надеялся, я был уверен, что он не останется жив… Совсем напротив теперь, – я твердо верил, и вера сбылась. Вся обстановка теперь как-то тихо, прекрасно покойна. Такими днями, полосами в жизни человек должен дорожить; проклятое невнимание наше к настоящему делает то, что мы только умеем воспоминать утраченное. Конечно, мудрено оттолкнуть страшную мысль возможностей, случайностей; зачем смотреть вперед, предвидеть чего нет, что может не быть, это своего рода Grübeleien, от которых я не так свободен, как от романтических. Идеалисты выводят из этой шаткости благ необходимость пренебрежения ими. Конечно, сфера идей не зависит от случайности, и исключительное погружение в частности гибельно, но нельзя же опять выйти из своей кожи для того, чтоб существовать только как мысль. Не токмо блага жизни шатки, но сама жизнь шатка; малейшее неравновесие в этом сложном химизме, в этой отчаянной борьбе организма с своими составными частями – и жизнь потухла; однако из этого не следует, что лучше не родиться или, родившись, зарезаться, чтоб не подвергнуться случайностям. Все прекрасное нежно, это цветы, которые мрут от каждого холодного ветра, в то время как суровый стебель крепнет, но зато он и не благоухает и не имеет ярких лепестков. Жизнь в высшем проявлении слаба, потому что вся сила материальная была потрачена, чтоб достигнуть этой высоты; мускулы можно резать, члены отнимать, а до мозга нельзя грубо прикоснуться. Таковы блага любви, – ими надобно упиваться, отдаваться им, жить в них, ловить, ценить каждое мгновение. Nur wenn er glühet, labet der Quell[414]. Августин говорит, что человек не может быть целью человека, – страшные удары смерти ежедневно доказывают это; тот, кто все положил на одну голову, для кого нет бога, кроме этого лица, подвергается грозной случайности, безумию, самоубийству. Но что это все, как оно принято, в каких пределах? Мать, стенающая у гроба единственного сына и молящаяся о душе его, этим актом показывает, что не все для нее было в сыне. Но кое-что, и кое-что многое, должно лежать на людях, должно иметь целью их, иначе холод и запустенье посетит душу, эгоизм или монашество – один выход. Что за стертое и дерзко скупое лицо, которое оттого <способно> заморить в своей душе потребность любви, что предмет его любви может умереть, изменить и пр. Конечно, могут быть выродки, то есть люди, не чувствовавшие вовсе этой потребности, – другое дело: глухим никто не рекомендует слушать Сальви. Ловить настоящее, одействотворить в себе все возможности на блаженство – под ним я разумею общую деятельность, и блаженство знания так же, как блаженство дружбы, любви, семейных чувств, – а там что будет, то будет, на мне ответственности не лежит; тот ответит, кто скрыл талант в землю, чтоб его не украли. Талант – мы берем его со стороны его развития, как великую возможность деятельности для других; но зарыть талант не токмо можно для других, но то же преступление человек может сделать относительно себя.
Разве не глупый поступок сделает тот, который, страстно любя музыку, не пойдет ее слушать, имея на то возможность? Мне всегда казались противны и смешны люди, из какой-то экономии ощущений отказывающиеся от лучших даров жизни, – на это имеют право одни безумные религиозники, для них самоотвержение, ненужное и подавляющее самые естественные потребности, – потеха. Такое прекрасное лицо, как Григорий Назианзин, писал к Василию Великому: «Помнишь ли, как мы тогда роскошествовали лишениями?» Стало, все страсти, разврат, обжорство имеют полное право… нет, не стало. У низкого человека низкие желания, но человек должен быть высок; поднимаясь, он поднимает свою страсть, а поднимаясь, она проходит великое чистилище. Страсти низкие большей частию сильны потому, что хорошие сгнетены, или, лучше, они сами по себе хороши, но низки от сгнетения. Отчего многие из людей развитых охотно выпьют стакан благородного вина и, может, один на тысячу пьет мертвую чашу, а в несчастных классах, на которых груди стоит безобразное здание нашей общественности, наоборот? Отчего во всех слоях общества есть женщины увлекавшиеся, падавшие, как говорят, а публичные домы снабжаются только низшими классами? Неужели эти бедные жертвы гнусной несправедливости так легко попали бы в свое ремесло, если б они имели воспитание? Чем больше разовьется человек, тем чище сделается грудь и тем труднее будет его уверить, что белое – черно, что все естественное – преступно, что все доставляющее истинное наслаждение должно быть избегаемо. Есть несчастная распущенность, которая, как и вообще слабость характера, унижает человека; такой человек следует уже не разуму, не сознанию, а одним естественным влечениям, и тогда он становится ниже человеческого достоинства. Опять та же статика. Все стороны, составляющие живой дух человека, должны слитно, гармонически участвовать в его деянии[415], иначе выйдет односторонность; физически это очень понятно, потому что в физическом мире царят драконовы законы, жесткие и кровавые; пусть в крови недостанет одной из существенных составных частей – смерть за эту неполноту, – то негодно, что неполно. Но на эту тему можно написать целую тетрадь. Возвращаюсь. Это чувство d’une beatitude tranquille[416] давно мною не чувствовалось так; святые, прекрасные месяцы моей владимирской жизни были ярче, потому что мы были юнее, но есть и поэзия возмужалости, так, как есть юное в совершеннолетии; теперь отчетливее, реальнее то, что было тогда лучезарнее и мечтательнее. За день до рождения Наташи я как-то превосходно настроился, с каким-то Sehnsucht[417] хотел видеть Грановского и Корша, то есть всех, по ком у меня здесь может быть Sehnsucht; на душе было легко, юное вспомянулось. Итак, да благословится же на жизнь этот младенец, пусть она будет как ее братья, а главное как ее мать. В Николеньке есть что-то женское, – что за бесконечная кротость в его детских чертах, что за мило-доброе и вечно смеющееся лицо!
17. Языков написал какие-то ругательные стихи на Чаадаева, Грановского и Герцена! Or donc Грановского он никогда не видал, меня раз. Я не читал это произведение славянофильских наущений Хомякова и оскорбленного самолюбия поэта, некогда нравившегося, теперь выжившего из ума, отсталого. Мы не курили ему фимиама, не считали за счастие разделять его томную беседу. Наконец, «Отечественные записки» недавно в прекрасной и ловкой статье оценили его по заслугам. Признаюсь, мне хотелось бы прочесть для того, чтоб убедиться еще в одной черте этой котерии: я почти уверен, что тут есть невольный доносец. А Аксаков написал премилые стихи, отказываясь от Дмитрия Коптева и Вигеля. Это свой круг стариков, изживших все бедное умственное достояние, непризнанных, отсталых, с ненавистию встречающих каждую мысль, пиетисты, доносчики, злые самолюбия, оскорбленные притязательности; тут Глинка, Лихотин, Сушков и юный летами, но старый подлостью Коптев. Это замкнутая котерия бездарности, догнивающие остатки чего-то загнившего прежде зрелости. О, милая Москва, да еще вельтмановская котерия с Нееловым, Рабусом, Сангленом!