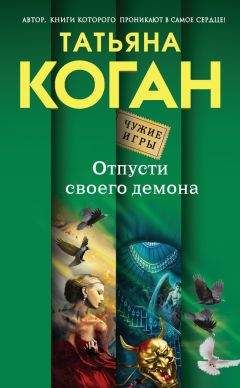Сергей Сергеев-Ценский - Том 2. Произведения 1909-1926
Выкатывались со двора мастерской Безверхого и катились, катились, катились в разные стороны разные экипажи, а он оставался на месте, и только когда видел сквозь ограду, как едет по улице знакомый ему заказчик, — а все, кто держал лошадей в Ромнах и во всей округе, были его заказчики, — он следил, как работает ход, не облупилась ли краска, — и вспоминал, когда именно делал и кому.
Молодой же его подмастерье любил кататься сам, — чтобы не около только кто-то ездил, а чтобы под ним самим катились, катились, катились колеса!.. И когда загремела гроза революции, открыт был фронт, и все газеты были полны статьями о самостийной Украине, и начали выкуривать панов из экономии, — когда все завертелось и замелькало и засверкало кругом, как карусель на ярмарке, — он выкатился со двора Безверхого и из Ромен, и из Засулья, и из Полтавщины, сначала в Киев, где, при немцах уже, дня два-три даже нравилось ему, что вот наконец-то, как встарь, опять «гетьман» у них на «Вкраинi», и «знова Скоропадский», и не какой-то там «Павел», как у москалей, а «Павло, як и треба казаты».
Потом он помогал свалить панского гетмана, и рад был, когда объявилась Украиньска республика, и из Киева шли витиеватые «универсалы».
Наконец, невозможно уж было что-нибудь понять. Бурлила Украина, как котел, — разные в разных городах нашлись атаманы, даже трудно было бы и сосчитать всех, — и все только барахтались на одном месте, но никуда не катились.
А ему хотелось катиться, и он пристал к тому, что катилось, к тому, что заполнило, наконец, Украину и полилось в Крым.
Он не был большевиком по партии, но работал не хуже любого партийного, и в том ревкоме, в котором еврей из Каменца ведал продовольствием, устраивал он земельный отдел.
Пятое лицо было тоже смуглое, но сухое, с ущемленным носом, тонкими губами, с несколько бараньим выражением масляных глаз и с таким угловатым и прочным лбом, что не страшна ему была бы и палка средней толщины; скорее разлететься вдребезги могла бы палка, набивши разве только порядочную шишку на такой лоб, — и это не потому так казалось, что каракулевая круглая шапка прикрывала емкий монгольский череп.
Этот родился в Дегерменкое. «Дегермен» — по-татарски мельница, «кой» — деревня. Протекает с Яйлы тут много воды и вертит колеса двух маленьких мельниц.
Из деревни виден Аю-Даг, а за ним полоса синего моря; это — налево и вниз, а направо и вверх — Яйла. Если перевалить через Яйлу, придешь в Бахчисарай, — бывшую столицу крымского ханства, где есть еще ханский дворец и много мечетей. Под Аю-Дагом, у моря — Гурзуф.
Дегерменкой — высоко. Это — горная деревня. Тут — бурые буйволы с покорно вытянутыми плоскими шеями; ишаки — пегие, с черными полосами вдоль спины и с черными хвостами; два фонтана, к которым ходят за водой татарки с медными кувшинами на плечах и где в медных тазах полощут белье.
Виноград, табак, груши, фундук, шелковицы, черешни, орехи — это его детство. А по зимам еще сосновый лес на предгорье, куда ходил он за дровами со своим бабаем и откуда, согнувшись, но бодро приносил свою вязанку; втрое больше его нес бабай, втрое больше бабая — ишак.
А потом дома весело трещали дрова в печке, и мать кормила его, уставшего и иззябшего, чебуреками на бараньем сале и говорила:
— Яхши баранчук!.. Кучук арабаджи! (Хороший мальчик!.. Маленький хозяин!)
А сестренка Айше, в красной феске, разукрашенной старыми татарскими монетами, тормошила его, подхватывала с полу корявые сосковые поленья, которые казались ей похожими то на птиц и животных, то на ее подруг, и спрашивала, бойкая:
— Абу?.. Абэ?.. (Это кто? Это что?)
Сама себе отвечала и хохотала.
Зимою тут дули сильные ветры с гор, зимою невольно хватался глаз за синюю полосу моря, видную за Аю-Дагом: она уводила душу куда-то на юг, в теплую турецкую землю, где своим среди своих хорошо было бы жить татарам.
Но наступала весна, и все цвело кругом: кизил и миндаль, персики и черешни, груши и абрикосы, яблоки и айва…
Тогда уж не смотрелось на море: тогда земля кругом обещала каждый месяц новые сладости, и каждый месяц бросал в глаза свои краски и обвеян был своим ароматом.
Сначала поспевала черешня разных сортов: скороспелка, бычье сердце, розовая, белая, черная, и везде по деревне валялись свежие косточки; потом наливались нежные ягоды шелковицы, — и губы, и пальцы, и рубашка его были точно в чернилах. Потом персики миндальные и персики-арабчики, и урюк… Даже осенний сбор грецких орехов со столетних огромных орешен, — когда очень прочно выкрашивались в черное концы пальцев, — веселил душу.
Ни одного бесполезного дерева не было в деревне: все давали доход. И когда в первый раз с бабаем пошел он в Гурзуф и увидел там аллею белых акаций на одной даче, он спросил отца изумленно:
— Бабай!.. Это какие деревья, бабай? Зачем их сажали?
Отец и сам не понимал, почему не посадили тут в два ряда хотя бы абрикосы или сливы изюмэрек, а он, маленький, решил тогда сразу и навсегда:
— Эти русские помещики, бабай, — какой это глупый люди, — це-це!..
Даже по лбу себя ударил.
Самое милое время был август, а за ним и почти весь сентябрь, когда поспевал виноград, делали сушку из груш, варили на зиму сладкий бекмес…
Он любил свою деревеньку и мечеть, и нравилось ему, когда мулла аджи Осман посылал его на минарет кричать молитву.
Он истово, с большим выражением, звонким мальчишеским голосом пел святые арабские слова:
— Аллагу экбер!.. Аллагу экбер!.. Эшгеду еннэ, Мугамед эррэ ресюл улла!.. Айя лес алля!.. Айя лель феля!.. Аллагу экбер!.. Аллагу экбер!..
И сам аджи Осман хвалил его, а он три раза ездил в Мекку и учился в Константинополе, где живет сам султан, их султан, — также и их султан: повелитель всех правоверных на свете.
Ниже Дегерменкоя, и ниже Кучук-коя, и ниже Биюк-Ламбата, вблизи моря, в долине была могила татарского святого.
Злодеи отсекли святому острой саблей голову где-то там, на Яйле, и святой взял свою голову в руки и пошел вниз, в долину. И где капали чистые слезы из глаз святого, там растут теперь белые подснежники, а где капала кровь из шеи святого, там растут красные, как кровь, пионы… А в долину к могиле святого каждый год в праздник Ураза в мае сходятся татары изо всех окрестных деревень: там борются, скачут на лошадях (в какой деревне окажется лучшая лошадь), режут баранов, тут же жарят и едят шашлык…
И когда был он маленький, больше всего мечтал он иметь такую быструю, как ветер, лошадь, чтобы всех обогнала у могилы святого.
О том, чтобы всех победить в борьбе, он не мечтал: он рос слабым, — даже Айше одолевала его. Зато он учился в школе, писал и читал по-русски и хорошо говорил, и когда пришли коммунисты в Крым, он стал комиссаром в своем Гурзуфе, чтобы отстаивать татар, которых могли обидеть пришлые чужие комиссары.
И если бежал он теперь вместе с другими, то совсем не из боязни, что кто-нибудь из татар в Дегерменкое выдал бы его белым, но на русских он не надеялся, также на греков, поэтому на первое время думал скрыться в какой-нибудь татарской деревне на севере Крыма, а отсюда всегда можно бы было перебраться домой и в том случае, если белые долго пробудут в Крыму, и, тем более, в том случае, если их выкинут в море красные.
В это последнее он почему-то больше верил, и среди всех, сидевших теперь в карете форда, он имел вид хозяина: точно и не бежал вместе с ними, а ехал по своим владениям с гостями, и рад был, если кому-нибудь нравился тот или иной вид, та или иная окраска поля или неба, даже просто свежий утренний воздух… Правда, это был уже не южный берег, но все-таки… «все-таки это — Крым, гаспада!»
Он часто говорил по привычке «гаспада» вместо «товарищи» и извинялся, когда его поправляли.
И, наконец, шестое лицо.
Оно — овальное, очень правильной формы. Кожа — белая, тонкая, не поддавшаяся даже жаркому причерноморскому солнцу, и странный такой девичий румянец на щеках. Глаза зеленовато-серые, и над ними ровные, опять девичьи брови… и лоб гладкий, а надо лбом небольшой козырек аккуратной студенческой фуражки. Лицо было бы красивое, если бы не очень большие верхние зубы… Страшно даже, — откуда они у него? — Не то волчьи, не то кабаньи… И хоть бы улыбался меньше, но он улыбался часто и охотно, этот волкозубый студент, видно было даже, что зубы эти мешали ему и говорить ясно: он как-то запинался на «д», «т», «н», а гласные выходили у него глуховато, в нос, но он говорил охотно, как улыбался. Тембр голоса был у него красивый… И была какая-то бездумность на его гладком лбу без единой морщинки, впадинки, бугорка.
Этот родился в Тамбове, но детства у него почти не было, так как был он потомственный русский интеллигент, — не было детства, не было религии, даже национальности не было, хотя отец его, земский врач, носил русскую фамилию и числился православным, а так как он тоже был природным тамбовцем, то имел довольно редкое вообще имя Питирима, местного подвижника, мощи которого лет двести хранились в соборе.