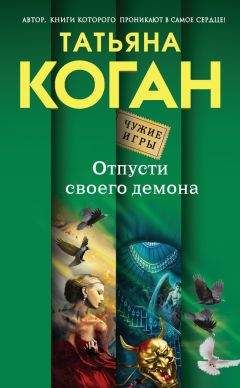Сергей Сергеев-Ценский - Том 2. Произведения 1909-1926
В партию, обещавшую сделать бесплатными все театры, отнять у хозяев лошадей и фаэтоны и отдать их Нухимам; дать Леям хороших мужей, не связывая их выбор с короткой или длинной ниткой, сделать общим достоянием бессарабский и иной виноград, открыть всем доступ в аптеки и в книжные магазины; сделать так, чтобы казачьи офицеры не рубили уж больше шашками пальцев Розенштейнам и чтобы полиция не устраивала бы уж больше погромов, — он вступил, когда ему было только шестнадцать лет.
И в том городе, откуда он бежал теперь на север, он был комиссаром продовольствия, то есть ведал мукой и пайками, однако, глядя на него теперь, никто не заподозрил бы его в том, что сам он съедал два-три-четыре пайка: он был желт, худ, костляв, а револьвер в кобуре желтой кожи казался на нем совершенно лишним и даже делал его смешным, так как до колен оттягивал его пояс, точно не он нес револьвер, а револьвер — его.
И была странная особенность у этого лица, сбегающегося вниз от линии лопоухих ушей к узкому бескровному подбородку правильным равнобедренным треугольником, — особенность взгляда.
Кто бы и что бы ни сказал, эти два неверно-блестящих выпуклых глаза тут же скользили по другим, ища ответа: так ли сказано или нет, в насмешку это или серьезно, умно это или глупо?.. И только тогда успокаивались на чем-нибудь одном эти глаза, когда схватывали общее впечатление от сказанных слов, и, если оно было «серьезно», — сами становились серьезными, если же «в шутку», — смеялись. Это были очень беспокойные, шарящие глаза; но так же беспокойны были и тонки мускулы на его лице, на котором никак не могло прочно улечься ни одно настроение: подозрительность явная была в нем ко всем настроениям вообще и к их прочности.
Что бы ни начинал говорить он сам, он все начинал со слова, казавшегося ему совершенно бесспорным, всегда и везде уместным, в которое он поверил, как в любую строку из таблицы умножения, — со слова «товарищи»; и видно было, что десятки тысяч раз за свою недолгую партийную жизнь успел он сказать это слово, но когда говорил: «товарищи!» — то, странно, — делал ударение то на «ва», то на «щи».
Третье лицо было крупное, с квадратным подбородком, широкое к вискам, похожее на опрокинутую пирамиду, мясистое, светлоглазое, большеносое, очень полнокровное, близкое к русским лицам, но в чем-то не вполне ясном, однако бесспорно — не русское лицо.
Это там, в былой Курляндии, около Тальсена, в сосновом лесу, на мызе, сыто рос этот плечистый, здоровый чистяк латыш, высокий, как сосна среди сосен. Это там, где так много озер кругом, и к озерам на водопой выходят из лесу пугливые дикие козы, но в озерах нельзя было ловить рыбу, и нельзя было в лесу охотиться на коз.
Можно было арендовать землю у барона и оставлять ему обработанные поля и устроенные мызы, если не можешь выполнить договор, или идти батраком в его имение, или служить на его лесопилке.
На одной такой мызе рос и он, и, когда был совсем маленький, его друзьями были добродушная, мягкая, серая мурчалка-кошка Фиуль и облезлая старая канарейка Фогель Ганс, тоже добродушное, давно привыкшее к людям существо, и все кругом его было доброе, добротное, добродушное: и сама широкая изба на мызе, и широкие вдоль стен крепкие дубовые лавки, и широченная печь, из которой так часто и так вкусно плотно пахло круглым и мягким ржаным хлебом, и широкоплечая грудастая мать, и исполин отец, и два старших брата — Карл и Ян, как два хороших дубка, и, наконец, все эти слова родного их языка, полноголосые, круглые, упругие, как литые резиновые мячи, которыми они перебрасывались неторопливо:
Куа?.. Ну йя!.. Нэ кас нэбус!..
(Что?.. Ну да!.. Ничего не будет!..)
Но говорили в семье и по-немецки, так как край был искони немецкий, и даже по-русски, так как отец его долго служил в солдатах.
Ему было тогда семь лет, когда началось восстание против господ… Теперь, когда ехал он на форде, ему шел двадцать первый, но помнил он хорошо и хранил в памяти свято тот год.
Когда, в отместку за разоренные и сожженные замки баронов, край наводнили казаки и драгуны, Карл и Ян стали «лесными братьями», и тогда, в семь лет, окончилось его детство.
Их мызу сожгли казаки, отца и мать погнали нагайками прочь. Поспешно убегая вперед по вязкому снегу, он оборачивался испуганно назад посмотреть на то, как горит их изба… и старый Фогель Ганс и Фиуль… Отец вел в поводу лошадь, мать — ревевшую в тревоге пеструю комолую корову… Больше ничего не позволили взять, — даже саней. Сам барон приказал сжечь мызу: он не хотел их терпеть еще два года до срока аренды.
И зимою, втроем, плохо одетые, пошли они в другой приход, и от холода и усталости он плакал тогда: он был еще ребенком и хотел, чтобы ему сказали, зачем русские сожгли избу и что им сделали Фиуль и Фогель Ганс.
И была одна такая ночь… это уж весною, когда отец устроился батраком у Рысиня, своего шурина.
Он спал на лавке, маленький, и проснулся вдруг среди ночи, и не в силах еще был открыть тяжелых глаз, но слышал, даже вслушивался в полудремоте, даже узнавал чей-то близкознакомый голос:
— Я порядочно тащил творогу и хлеба, — все-таки он был хороший малый, этот лесник, — говорил кто-то очень знакомый: — Вот, думаю, обрадую Карла… и всех наших…
Он поднял голову, маленький: Карла… Какого Карла?
— Оставалось мне идти шагов сорок, ну, пятьдесят до шалаша… смотрю…
Замолчал вдруг говоривший, потом продолжал тихо:
— Их всех четверых, должно быть, сонных захватили… У всех уж были связаны руки… И у Карла…
Сердце начало как-то ходить кругами, и глаза маленького открылись вдруг широко, смаху…
Только луна светила в окно, — нельзя было различить, кто же это говорит так тихо и так почему-то страшно: «И у Карла»…
— Восемь человек драгун было… Я остановился в кустах и… смотрел… Что же я мог сделать один? Их было восемь!.. Я думал стрелять, выставил браунинг… А Карл… а Карл сказал в это время: «Кто попадет мне с одного выстрела в сердце, получит золотые часы!» Он был совсем молодец, наш Карл!.. Хоть бы немного струсил… Ни капли!
Маленький сел на лавке: «наш Карл»!..
— Видно было, что застали врасплох: драгуны были не злые, — не ругались, не кричали… А один, унтер ихний: где, говорит, у тебя часы? — За голенищей, — Карл говорит, — в правом сапоге. — Унтер полез за голенище, вынул часы… Это из Нейгофа были часы, из замка… Часы были большие, крышки толстые… Открыл унтер крышку, посмотрел… А Карл:
— Так ты попадешь в самое сердце?.. Ты не промахнешься?
— Это уж, — унтер говорит, — будь, парень, покоен… У меня же ведь, если ты хочешь знать, — кроме того, что первый разряд, — за стрельбу призовую — приз.
Ни у кого из четверых наших такого лица не было, как у Карла… Это я не потому так говорю, что он — наш Карл.
— Ну, вот и хорошо! — так сказал Карл. Я ясно слышал: — Вот и хорошо!
А унтер:
— Ребята! (это он драгунам). В моего никто не стреляй! Других бери на прицел!..
Тут Карл крикнул:
— В самое сердце! Смотри!
Унтер часы приложил к уху, — послушал, какой у них ход, — потом их в карман спрятал.
— Я, — говорит, — порядочный человек… У меня раз сказано, — свято.
Винтовку поднял.
— Отделение!..
Все прицелились в тех, а унтер в нашего Карла… А Карл как крикнет:
— Долой господ!
Тут же унтер сразу:
— Пли!
На левый бок Карл упал… Потом повернулся ничком… Тут же… Он не мучился… Нет… Нисколько…
— Оказался унтер этот порядочный человек! — отозвался голос отца, — глухой и мало похожий на его голос…
Мать заплакала тихо…
— Ян? — догадался он, маленький, и слез с лавки. — Ян? — и крикнул громко: — Это ты, Ян?
— Шш!.. шш!.. шш!..
Зашикали на него кругом испуганно, но рука Яна нашла его, и он, маленький, тут же влез к нему на колени и прижался губами к его губам и зашептал ему на ухо, весь в слезах:
— Я им покажу, постой!.. Я им покажу!
Он был и тогда крепко сбитый бутуз, и Ян, спуская его с колен на земляной пол, потрепал его по тугой щеке и проговорил тихо:
— Покажи, покажи!
Скоро он ушел, боясь рассвета, и ушел навсегда. Никто потом, сколько ни ждали они трое, не пришел сказать, где убили его драгуны или казаки, и нашелся ли и для него, как для Карла, порядочный унтер, чтобы убить с одной пули в сердце.
Как долго, упорно, упорнее отца, даже матери, ждал он письма от Яна из Англии, Франции, Америки, — мало ли свободных стран, куда он мог уехать, — и когда он начал учиться, он подолгу мечтал над картами обоих полушарий о том, где и кем теперь может быть Ян. И читал ли он об охоте на китов в океане, он представлял себе ловким гарпунщиком, опытным морским волком Яна; читал ли он о бое быков в Севилье, Ян представлялся ему пикадором или матадором… Но и золотоискателем в Клондайке мог быть Ян, — а письма… письма просто не пропускают русские жандармы.