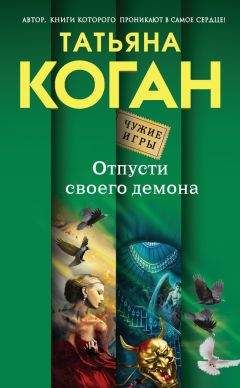Сергей Сергеев-Ценский - Том 2. Произведения 1909-1926
— Их надо всех поуничтожать, чертей! Вконец! — кричал он звонко и отчетисто, намекая на этих бывших хозяев жизни и подымая кулак.
И казалось ему совершенно простым и ясным, что не в ремонте только нуждается жизнь, а в окончательной перестройке.
С началом революции у него появилась способность говорить речи. Правда, речи эти были не очень длинны (скука длинных речей была ему совсем не к лицу), но зато выразительны, и кончались они большей частью так:
— И потому, стало быть, товарищи, все надо к чертовой матери!
Однако подсохла как-то революция к лету, вступила в затяжную какую-то скучную полосу: хозяева жизни оставались на своих местах, война продолжалась, и, если бы бросил он завод, его бы забрали в армию.
И от начавшей было сосать его новой тоски, еще более тошной, он избавился только в октябре.
И, как пылинка среди пылинок, поднятых вихрем из-под давящих ног, он закружился радостно. Он успел уже побывать и на Дону и на Кубани… Был в квартире генерала Каледина… На бронепоезде под Ригой помогал обстреливать немцев, — подносил к шестидюймовке снаряды… Сюда, в Крым, он приехал как комиссар труда и с огромной энергией уничтожал хозяев, реквизировал, жучил, обобществлял.
Но, налетевши в вихре, как пылинка среди пылинок, он улетал теперь в том же вихре, без сожаленья и без грусти, с одной только жаждой нового полета, и из шести лиц, столкнувшихся вместе в тесном вместилище каретки форда, это было наиболее беззаботное, наиболее веселое, наиболее верящее в счастье, наиболее избалованное счастьем, насквозь пронизанное лучами счастья лицо… И счастье это было все то же — певучее, вместившее в себя тысячу песней, истинная «Песнь песней» — слово «ре-во-лю-ци-я»!..
На другом лице были блестящие, как стекло, черновекие глаза, от темных подглазий огромные, нос серпом и уши, как у летучей мыши.
В Каменец-Подольске, над извилистым и быстрым Смотричем, на польских фольварках или потом в Подзамчье, в узеньких, кривых, помнящих турок уличках, около бывшей турецкой крепости, ныне тюрьмы, в воротных каменных устоях которой сидели, прочно влипнув, круглые бомбы, — прошло детство.
Какой крупный, исчерна-сизый виноград бессарабский привозили из Хотина, за двадцать шесть верст, и как приманчиво на площадке около моста, на возах молдаван, горели по вечерам фонарики!..
Это было как таинство. Пролетки извозчиков дребезжали по булыжнику мостовой, заглушая все остальные звуки; стены домов около чуть белелись и казались совсем легкими, как из оберточной бумаги, и единственным, плотно закругленным, существующим самостоятельно и в то же время недосягаемым, как мечта, были эти возы с фонариками над грудами терпко пахнущего винограда. Подходили к этим возам, пробовали, торговались, но спокойно, как сама судьба, говорили молдаване:
— Тилько дэсят копэек…
Достать бы гривенник и купить фунт!.. Но разве можно было где-нибудь достать целый гривенник?
Мелом на старых серых досках, кое-где даже черных от гнили, на фронтоне кривого крылечка было начерчено кривыми, пьяными буквами по-русски: Меламед. Сюда он бегал каждое утро, подтягивая на бегу шлейки коротеньких гультиков.
Меламед был в рыжем, густо заплатанном длинном сюртуке и сам рыжий, с закрученными концами длинной бороды и волос над ушами. Муаровый вздутый картуз носил внахлобучку; имел козий голос. Часто кричал, сердясь, и больно бил его указательным скрюченным пальцем в затылок…
В этом хедере было их человек десять, и так громко учились они читать по-еврейски, что русские прохожие затыкали уши.
Проходя мимо аптеки Англе в Троицком переулке, мечтал он быть аптекарским учеником, ходить в чистеньком костюме, в воротничках и манжетах, с блестящими запонками, может быть и из нового золота, но совсем как настоящие золотые, приносить домой разные духи и пахучие мыла в красивых обертках… Но разве так много аптек в Каменце?.. И разве же так много нужно туда учеников?.. В декабре, когда выпадал снег даже и в Каменце, по первопутку к польскому и русскому Рождеству привозили битых гусей, накрест перевязанных тонким шпагатом, и горы гусиных потрохов лежали на мешках, постланных на земле на Старом базаре, и целый гусь тогда продавался по рублю, даже по девять гривен, а потроха (все в сале!) за четвертак!..
Но где же было взять целый рубль, когда в семье — восемь человек, и когда отец всего только шмуклер, и может вышивать только звездочки на погонах этих страшных офицеров казачьего полка?..
Разве один из этих офицеров не отрубил своей шашкой четырех пальцев купцу Розенштейну? Они — урюпцы, и у них — вишневая епанча сзади на бешмете… Когда они учились на площади, то на всем скаку соскакивали наземь, и по команде тут же бросались наземь их лошади… А казаки из-за лежащих, как мертвые, лошадей открывали стрельбу.
Испуганный, он бежал тогда от этих непостижимых людей с их колдовскими лошадьми, как мог дальше, и даже боялся обернуться назад.
В узеньких уличках Подзамчья, где отовсюду пахло жареным луком, где все чем-то торговали и все знали обо всех всё, было гораздо спокойнее, потому что не было непостижимых загадок. Даже козы, кое-где на двориках в три аршина обгладывающие, стоя на задних ногах, последнюю кору с каких-то деревьев, даже и эти умные козы с наблюдательными глазами, чем же они загадочны? Это — еврейские козы, и от них явная польза: три стакана молока в день!
По воскресеньям гудел орган в кафедральном костеле, и с молитвенниками в руках шли туда все красивые, нарядно одетые, в конфедератках на головах паненки.
Костел красивый, музыка органа красивая, паненки красивые… но ведь чужие!.. Но ведь это же все чужое!.. А разве можно полюбить чужое?
— Нухим! Нухим!
Вот около костела — Нухим: это свое.
Нухим — его старший брат, извозчик от хозяина. На нем синяя чумарка, подпоясанная ремнем с бляхами, и драная шапка. Он ждет у костела — может, какой пан вздумает прокатить свою пани из костела домой в фаэтоне.
И пан — длинные червонные усы, и сам такой важный, — выходит под руку с пани, и пан смотрит презрительно на нухимовых кляч и на ободранный старый фаэтон, и пан говорит сквозь зубы: «Жидивска справа!» — и идет пешком.
А Нухим подтягивает кнутовищем шлею на одном из пары своих одров и ждет другого пана, который не так важен, как этот, который, конечно, так же скажет, как этот: «От-то-ж жидивска справа!» — но все-таки сядет в фаэтон и даст ему что-нибудь заработать.
Нет, когда он вырастет, он никогда не станет извозчиком, как Нухим!.. Он может поступить приказчиком в книжный магазин Лахмановича и будет продавать книги… Лахмановичей не так много, как извозчиков, Лахманович — один, и всякий, даже самый важный пан, если он захочет купить книгу, зайдет в магазин Лахмановича на «Шарлоттенбурге», где так хорошо гулять по вечерам… Или в магазин Шапиро, или в магазин Варгафтига он поступит, — мало ли магазинов? Он будет такой умный, что даже во сне будет думать, и так будет слушать хозяина, что его уж ни за что не прогонят, только бы приняли.
От их дома далеко был сквер, где играл оркестр. Нужно было идти туда через мост к Новому городу. Под мостом, внизу и вправо, — русские фольварки. Под русское Рождество отсюда ночью выходили парни с большими звездами, склеенными из красной бумаги и картона. Звезды эти несли на палках, и в середине каждой звезды горела свечка. Парни пели…
Издали это было очень красиво, и можно было долго смотреть с моста, как колыхались внизу красные звезды в темноте, и слушать, как согласно пели парни… Но это было чужое… А разве можно было привыкнуть к чужому?
Вот что было свое: когда старшей сестре уже пришло время выходить замуж, у нее было два жениха, оба портные. И она привела их обоих домой и сказала:
— Возьмите иголки и нитки и начните шить, а я посмотрю уж, кого мне выбрать.
И оба начали шить, и он, маленький, тоже глядел на обоих.
Один был помоложе и покрасивее и дал ему, придя, конфетку в бумажке, а другой, постарше, не понравился ему: худой и даже немножко хромой…
Но только они начали шить, сестра Лея уже выбрала себе в мужья именно этого, немножко хромого, потому что он шил короткой ниткой, а другой — длинной.
— Ну, я уж зараз вижу, кто меня с детьми лучше прокормит, — сказала Лея.
А он тогда этого не видел и не знал даже, — можно ли ему есть конфетку или отдать обратно отвергнутому жениху, — и плакал.
И вот еще что было свое… В театре давали оперу «Жидовка», но, чтобы попасть даже на галерку, надо было заплатить целых семьдесят копеек!.. Где же было маленькому еврейчику достать такие большие деньги?.. И он ходил около дверей, и всех, кто шел в театр, просил, чтобы взяли и его…
Никто не взял.
И еще было свое, — древнее, как сами евреи: боязнь погрома… Такого погрома, как в Кишиневе, в Одессе, в Гомеле, в Умани, в Гренаде, в Кордове, в Пруссии, в Англии, в Палестине, в Египте…