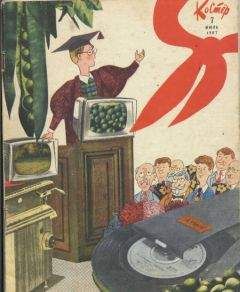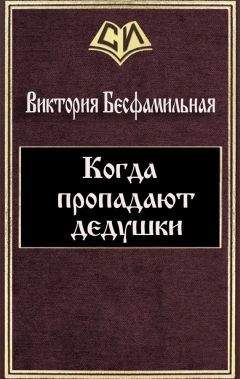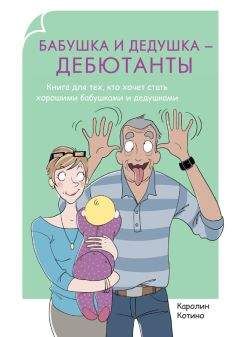Александр Бестужев-Марлинский - Сочинения. Том 2
Глубоко внизу стенал Атакваф, перебираясь по каменьям, ограненным вешними водоворотами. Прямо против меня на другой стороне реки, как погребальный ход, тянулся обоз по утесам; на него укладывали убитых и раненых. Взглянул вверх, — дикий кипарис, опахало мертвецов, простирал на меня венок из ветвей своих, и я вспомнил стих Вальтера Скотта:
О lady, twine not wreath for mee,
Or twine it of the cypress-tree![175]
Везде зачатки смерти, везде кровь и траур… но почему я впервые заметил это?
Я бы желал отдать последний вздох тому краю, который внимал моему первому крику. Как все младенцы, я плакал, когда родился, но, как немногие люди, живучи узнал о нем. Отравленный напиток — воздух бытия, но в отчизне по крайней мере мы вдыхаем отраву без горечи. В отчизне я бы уложил свои кости рядом с прахом отца моего, — и мягче и легче была б для меня родная земля! Враг не сорвал бы креста с моей могилы; прохожий помолился бы за грешную душу мою по-русски. Если же паду на чужбине, я бы хотел быть схороненным на берегу моря, у подножия гор, глазами на полдень, — я так любил горы, море и солнце! Пускай и по кончине согревает меня взор Божий; пусть веет мне горный ветерок; пусть кипучие волны прибоя напевают и лелеют вечный сон мой.
Дитя, дитя! Прах бесчувствен. В гробу снятся сны не из нашего мира!
Но неужели вы забьете, за клеплете в колоду и это бедное сердце — сердце, которому тесно было даже в груди? Учились ли вы физиологии? Знаете ли, что сердце живет прежде всего в человеке и умирает гораздо после? Не вдруг погаснет оно и застынет нескоро. Смерть превратит взоры в лед, а язык в камень; но сердце долго, долго потом будет еще роптать страстию. Зачем же душить его гробовою доскою, зачем отдавать подлым червям на потеху благороднейшую частицу мою? Лучше выньте его и сожгите: пламень был его стихиею.
И развейте пепел по ветру: пускай летает в поднебесье!.. Оно уж привыкло летать в поднебесье.
И, может быть, какая-нибудь пылинка перелетит за моря и сольется с родной землею… О, тогда весело вздрогнут останки мои в земле чужой!
Ничто не гибнет в природе, умирая, — ничто! не погибнет и лучшая половина меня самого — душа. Но я бы жаждал, чтобы она стала неразлучным твоим спутником, Лилия, твоим ангелом-хранителем. Как бы чисты были сны твои под моим крылом, как покойны чувства и думы! И почему же нет? Я и теперь, одетый в мятежное тело, обуреваемый страстями, готов бы охранять, вести тебя бескорыстно и безупречно; готов купить так же дорого твою непреклонность, как иной твое падение, — теперь, когда малейшая победа над собою мне наносит глубокие, горючие раны.
Когда же не станет меня, не ранее как тогда, пусть узнает Лилия, что я любил ее; но где возьму я слов, чтоб выразить, где найдет она чувств, чтобы постичь, как я любил? Что я отказался от надежды на ее взаимность за ее позднее уважение, что я не хотел напрасными приветами и забегами ни на один миг возмущать ее равнодушия, ее домашнего покоя и для того не пытал в ней моего счастия, — а одно слово, один взгляд ласки мог бы меня осчастливить. Ненасытны, беспредельны были мои желания в жизни, — и я бежал тебя, Лилия; но если ты уронишь хоть слезу на мою память, прах мой будет утолен. Одну слезу, Лилия, — за все мои страдания, — как единственную усладу, единственную награду моей тайной, нераздельной любви; и пусть за то будет вся жизнь твоя ясна, как слеза! Будь счастлива, Лилия… счастлива и за гробом!
Но кто спросит, кто расскажет про меня? Те, кто бы могли, не захотят, а кто бы желал, не может!.. Я сирота и в грядущем.
14 октября.
В один короткий осенний день сколько разных ощущений! Они наподхват вырывали друг у друга мое сердце и забрасывали его то в тихую радость созерцания, то в горячку истребленья, то в холод ужаса. Замечу мимоходом, что шапсуги сегодня в первый раз попытали передавить нас огромными каменьями, скатывая их с крутин, — и напрасно; что я оцарапан стрелою в правый бок; что я был восхищен видом на обе стороны, взобравшись на хребет Маркотча, отделяющий приморье от Закубанья. Позади тысячи долин и ущелий под чернетью теней от гор, под серебром речек, сверкающих от солнца. Впереди необъятное Черное море, со своими приютными заливами, с изумрудными волнами, с утесами, ворвавшимися в их середину. А кругом воины, бросающие победное «ура» на ветер Кавказа в привет знаменам нашего великого царя. И сами знамена шумели ему славу, играли радугой завета для Черноморья.
Теперь следует «зело любопытственное сказание о том, как имярек поражен бысть ужастию велиею, и яхся бегу, и о прочем». Не шутя, сегодняшний вечер стоит быть вписан в мою памятную книжку.
Рекогносцировка для устройства дороги реями по крутой горе кончилась на теме Маркотча. Только три батальона назначены были открыть сообщение с крепостцой Г-м и привести оттуда на вьюках провиант. Полк наш возвратился; я был послан вперед для закупок. Крутой спуск, перестрелка, бездорожье задержали нас, так что к взморью у Суджукской бухты достигли мы в потемках. По сказам проводника, оставалось еще версты четыре до Г-а, а ночь до того стемнела, что тропины в пяти шагах прятались от глаза. Овраги и рытвины беспрестанно пересекали дорогу; терновник закидывал ее своею колючею рогаткою. Отряд двигался медленно и осторожно: тем медленнее и осторожнее, что надо было поберечь раненых, которых везли мы верхом; перевалиться за хребет с повозками не было никакой возможности. И вот мне страх наскучило идти с ноги на ногу и поминутно слушать однообразный гул рогов. «Застрельщики, стой». Все, что было у нас кавалерии, умчалось вперед, посланные генералом известить крепостцу о прибытии отряда, а голод, а жажда и усталость меня томили. Воображение рисовало вдали кипучий самовар и вокруг его разгул стаканов, дымящихся китайским нектаром. Котлеты порхали «там, там в мерцании багряном», словно райские птички. Милочки летучие рыбы, про которых мне насказаны чудеса, танцевали на сковороде французскую кадриль на масле; как тут не соблазниться? Я подъехал к одному из оставшихся проводников.
— Тюрк-Абат, катнем вперед!
— Аллах коймасын (Да не попустит Бог)! — отвечал он. — У меня нет заводной головы. Ты лучше другого знаешь, черкесы невидимками вьются около каждого отряда, и чуть удались кто из стрелков — цап-царап, да и на аркан раба Божьего!
Я возразил:
— Натухайцы слабее других горцев, и в доказательство тому, что они убрались восвояси, нет ни одного выстрела ни по нас, ни по всадникам, которые уехали вперед, а, уж конечно, эти разбойники не упустили бы случая кого-нибудь из них застукать, если бы вблизи были.
— Будь их много, они бы, конечно, напали на горсть наших всадников, — отвечал Тюрк-Абат, — а что скажешь, если их какой-нибудь десяток для дозору?
В инструкции полковникам о кареях против турецкой кавалерии, данной стариком Каменским, между прочими чрезвычайно дельными замечаниями сказано: «Пехота, которая вышлет стрелков далее восьмидесяти шагов от фронта, может исключить их из списков». Почти то же можно сказать в рассуждении всадников, выезжающих далее восьмидесяти шагов за цепь в сторону, в войне с черкесами. Кажется, их нет за пять верст, все тихо, а попробуйте остаться на полвыстрела от арьергарда, они налетают как вороны, выскочат из дупла как рысь, как гриб вырастут из-под земли. «Все это так, — думал я, — однакож мне удавались и не этакие штуки. В такую ночь можно уйти от совести, не то что от черкеса».
Тюрк-Абат, как будто возражая на мои мысли, сказал:
— Нет, достум (Нет, друг мой); теперь разве на птице можно перелететь до крепости; на лошади — нет.
Во мне загорело ретивое. Я потрепал по крутой шее своего буланого и сказал:
— Послушай, Тюрк-Абат, ваш Магомет был великий чудодей. Однажды он снял месяц с неба, разрубил его надвое, как пятак, и пропустил половинки сквозь рукава своего кафтана, и опять сложил их, и опять повесил месяц на небо. Слова нет, штука недурная. Однако наш падишах выкинул поудалее этой: он сорвал Магометову луну с этого неба и положил к себе в карман. Давно ли точил на нас рога свои полумесяц над здешними горами? А погляди-ка вверх, теперь ни четверть месяца не смеет выглянуть. Я русский. Я не барышня. Да и не раз изведал, что и черкес не черт. У него ружье, и у меня не флейта; под ним конь, да и подо мной не собака. Еду один.
— Поехать легко, — возразил хладнокровный азиатец, — но не проехать. Впрочем, у нас есть пословица: «Жизнь — любовница человеку. Кому она мила, тот ей раб; кому постыла, тот хозяин». Твоя воля!
Le coquin a frappe juste[176]. Плеть хлопнула, и в три мига я был далеко, так что, когда обернулся, мне уж не видно было огненной струйки дыма, слетавшей по времени с трубки проводника. Я то скакал, то сдерживал коня, чтобы прислушаться, нет ли шороха или топота. Ничего кругом: ни души, ни искры; только вдали за мной раздаются русские песни как неясное воспоминание. Легкий туман чуть подымался; зато безбрежная ночь чернела все пуще и пуще и, казалось, мигала мне тысячью огромных глаз своих. Не зная дороги, я ехал почти ощупью, вставал на стременах: нет как нет крепости, — она завернулась, верно, в валы свои, прикурнула под какой-нибудь холмик и зажмурила все свои огоньки, — спит себе и не подаст голосу. Й вот мне стало казаться, будто пни дерев шевелятся, перебегают дорогу, разрастаются великанами, все ближе и ближе, и сбрасывают наконец свой оптический наряд леших, и давай подтрунивать надо мной, как баловни школьники. Иной щипнет за ухо, другой, подкравшись, тянет долой шапку, третий подставляет ногу коню моему, то прыщет в лицо холодной росою, и в каждом дупле, казалось, пищит какой-нибудь Пук или Ариель, защемленный туда за проказы. Лес для меня ожил, населился, заговорил всеми созданиями Шекспировой фантазии и карикатурами Гетевого шабаша ведьм… И вдруг вдали передо мною брызнула синяя искра, — верно, блудящий огонек.