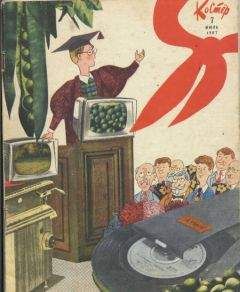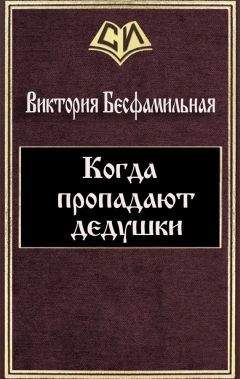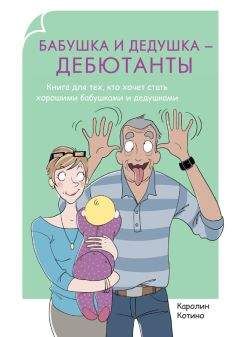Александр Бестужев-Марлинский - Сочинения. Том 2
Мило негует роза с тиховейными ветерками и в благоуханном поцелуе передает им свою душу; а между тем червяк уже подточил ее стебель. Драгоценный алмаз манит взоры красавиц и поклоны корыстолюбцев; но химик наводит на него свои зажигательные зеркала, и звезда земли — уголь! Высоко ширяется в поднебесье орел, купает крылья в радуге, хочет закрыть ими солнце, — и на земле уж все мое, думает он, — и вдруг откуда ни возьмись зашипела стрела, ветка, только что оперившаяся, на которой он отдыхал не далее как вчера, — и властитель воздуха, пробитый ею, издыхает в грязи, игрушкою ребятишек!
И вот символы трех идолов, трех летучих целей человека, за которыми он гоняется, ползает и скачет целый век, которым в гостинец приносит тело и совесть и самую душу, о которых мечтает в разгаре юношеских страстей и в бреду предмогильном. Люди совестливые зовут этих идолов собирательным именем — «счастие»; я буду откровеннее, — или подробнее, — я переведу слово «счастие» словом «наслаждение» в трех лицах — любви, богатства, власти. И каждое из них для нас то цель, то средство, и каждому из них имя — легион!
Коварный дух желаний уносит душу нашу на темя гор и говорит: «Смотри, любуйся, выбирай: мир богат и необозрим: поклонись мне — и все твое!» Какой смертный возразит ему: «Vade retro, Satana»?[172] Мы падаем в ноги искусителю и ставим годы жизни на карту. Бесстрастная судьба с ужасною улыбкою на устах мечет банк свой. Роковой баламут подобран, но она хочет заманить неопытных. Соника — и раз за разом падают валеты и дамы налево! Первый банк сорван.
Но во всем положен человеку предел, за который не перейти ему без казни. Прекрасно дерево наслаждений, сладки его яблоки, но берегитесь прокусить их до сердца: у них сердце — яд тлетворный, мучительный, убийственный яд! Распутник скормил душу и силы своей обезьяне, любви, и в цветень жизни чахнет дряхлый, бессмысленный. Он уже в самом себе схоронил чувственность, для которой пожертвовал всем. Рядом с ним любовник — мечтатель, который без боя дался в рабство преступной или несбыточной страсти, который забыл, что он человек и сын отечества, гибнет в келье умалишенных, угрызая цепь с жажды поцелуев Своей Элеоноры. Винолюбец задыхается водяною. Богач-лакомка умирает на рогоже мучеником пресыщения и расточительности. Богач-скупец нищенствует с боязни обнищать и замерзает от холоду, от бессонницы у сундука с деньгами. Но пусть в наш век самое сребролюбие роскошничает, дает пиры из барышей и, для покровительства, прячет лохмотья свои под батист, пакует себя в английское сукно; неужели ж вы думаете, что миллионер-откупщик менее скряга, чем миллионер-ростовщик? Напрасно! Вся разница в том, что один считает восковые, а другой сальные огарки. Поверьте мне: он мучится каждым куском стерляди, на которую звал вас; зубы гостей, отличаясь над страсбургским пирогом, жуют его сердце. Не шамбертеном он их потчует, а своею кровью; наливает — и следит каждый глоток и раскидывает на мыслях, как на счетах, сколько процентов принесет ему бутылка, а сам мечтами загребает золотые горы, хочет выпить весь Урал с его песками, сбирается проглотить целиком всю Индию, — и что ж? — захлебнулся, глядишь, одним бочонком червонцев, подавился кораблишком, истек векселями — и лопнул, он банкрот! А там мятежный честолюбец гибнет под колесницею или на колесе. А там властолюбивый вельможа, захватывая власть над другими, теряет ее над собою, с ней доверие царя, затем даже наружное поклонничество толпы. Презренные орудия его прихотей становятся орудиями его казни, насмешки и проклятия провожают в опалу. А там завистливый царедворец сохнет на одной ножке, оттого что дождь милостей льется на тех, кто его достойнее; а на беду целый свет достойнее его. А там изнывает в забвении сочинитель, привычный дышать дымом похвал, с комическою горестью видя, что его прежние кадила коптят уже новых кумиров. Но кто исчислит все терзания желаний и обладания, начиная с полководца, читающего в газетах свои военные ошибки, доказанные яснее дня, и победы, смешанные с грязью, или в приказах повышения соперника, до бульварного любезника в отчаянии оттого, что у приятеля лучше его бекешь, а у него краснеет нос на морозе в решительную минуту встречи с графинею N? Добровольные мученики то славы, то моды, мы страстны к изобретению орудий на собственную пытку; мы страх любим поджаривать себя на малом огне прихотей, не замечая того, что раздуваем его в пламя раскаяния; и дивитесь в этом правосудию провидения: мы казнимся всегда и неизбежно тем же, чему предались без меры, — непременно тем самым.
А между тем есть цветы, девственные как розы денницы. Есть алмазы столь же ясные, как звезды небесные. Есть жезлы и венки власти и славы, цветущие благословением народов. Желать их искать, добывать и потом лица и кровью сердца мы стремимся природою, но чтобы они просияли нам радостями невозмутимыми, радостями, каплющими прямо с венца Божия, надо самоотвержения для любви, благодетельности для богатства, того и другого для власти, а то и другое есть два слога любви, любви к ближнему, переливающейся из единства во всемирность.
Кто же посмеет сказать, что истинная любовь есть бренная страсть? Напротив, она есть чувство бесчувственной, душа живой, бог одушевленной природы. Да, бог: это собственные слова Спасителя. И можно ли иначе назвать эту разумную силу, которая заставляет цветок увядать от неги зачатия, велит влюбленному соловью отдавать свои поэмы дебрям, учит кровожадного тигра ластиться, стремит былинку к родной былинке и произращает из них то кристалл, то деревцо, то животное, плавит металл с металлом ударом электричества, внушает неизменное постоянство магнитной стрелке? наконец, проясняет души человеческие, созывает, мирит, роднит их, сливает в одно прекрасное, почти небесное бытие? наконец, сгибает пути сфер в обручальное кольцо около перста Предвечного!!!
И мне ли, существу в высшей степени раздражительному и пылкому, не покорствовать такому закону, выраженному пленительным голосом Лилии и ее небесным взором? О, встреча с нею — поцелуй огня с порохом! Я загораюсь тогда как существо и как вещество. Каждый волосок тогда оживает на мне отдельною жизнию, и все, начиная от самой ничтожной капли до высокой думы, отзывается во мне сладостью любви. Миллионы сердец трепещут в груди, миллионы звуков брызжут сквозь поры, и душа под перстами какого-то ангела звучит и ропщет дивною гармониею, будто огнеструнная лира!
Трансценденталисты находят в человеке сокращение всего мира. В тебе, Лилия, нахожу я, напротив, только изящную, возвышенную, прелестную природу. Не весна ли твое дыхание, не денница ли румянец, не горный ли снег белизна? Разве не отдало небо восточную синету очам твоим, а взорам звезды — звезды, каких не видал до сих пор вдовый край Севера[173]. Станешь ли — и легкий стан твой зыблется как облачко! Ступишь — и будто зовешь на бег ветер! Губки твои, эти розовые, лучше, нежели розовые, губки — полу разверстые и трепетные, словно чашечка цветка под первым лучом солнца, под утренним повевом зефира! Они ждут, кажется, поцелуя, чтобы расцвесть улыбкою, чтобы выронить, как росинку, слова отрады.
Прочь!.. Не смущайте меня, воспоминания; желания, не жгите! Вы так неодолимо прельстительны, покуда не помрачены обладанием, не убиты опытом — этим палачом воображения! Долой с моего сердца холодная его рука. Хочу любить и верить, и для того пусть умру молодой; пусть мечты прекрасного закроют мне веки еще непоблеклым крылом своим.
Да, грустно сознаться в себе и убедиться на других, а надобно: с молодостью умирает в человеке все безотчетно-прекрасное в чувствах, в словах, в деле. Какая ж радость слоняться по свету собственным гробом и рассказывать о добрых своих качествах как о покойниках? Не пережил я своей молодости, а сколько уже схоронил высоких верований! Каждый день развязывает по узлу, крепившему к земле душу. Остаются только слабые путы дружбы и неразрешимые цепи любви; да и той я верю только в себе потому, что она томит, снедает, уничтожает меня. Зачем же не уничтожит скорее!..
2 октября. Ночь.
Нет, еще не умерло во мне сердце; ключи его не застыли до дна; порой, оттаянные думою или звуками, они пробиваются наружу слезами и неслышной, но целительною росою падают на грудь. Сидя у палатки, я рассеянно глядел на лагерь наш, облитый пламенем и тенями заката. Предметы обозначались и опять исчезали передо мной сквозь глубокий дым трубки. Абин широким кольцом охватывал стан слева, и от него тянулась вереница коней с водопоя. Пушки прикрытия гремели цепями, въезжая на батарею; ружья идущей за ними роты сверкали снопом пурпуровых лучей. Там и сям кашевары несли по двое артельные котлы с водою, качаясь под тяжестью. Туда и сюда скакали, гарцуя, мирные черкесы или вестовые казаки. Огоньки зачинали дымиться, и около них густели, чернели кружки солдат. Все будто ожило отдохновением, и, уложив до завтра дневные труды, весело заговорило поле ржаньем коней, строевыми перекличками, нарядами в цепь, в караулы, в секреты, бубнами песельников, полковой музыкою перед зорею, — и под этот-то шум падало за горы солнце, залившись кровью, будто сбитое с неба дружинами огненных, багровых, золото-бронных облаков. Они быстрым лётом теснили, преследовали убегающее светило, — и постепенно померкали ряды их: изредка лишь вонзался в огромные их щиты луч, перестреленный через хребет, — и погасал. Наконец почернело все небо, исчезли и малейшие розовые следы запавшего солнца, — и никто в целом лагере не думал о солнце. Солдаты ластились к огню, на котором кипел их ужин. Офицеры приветно улыбались самовару; кони рыли землю копытом, ожидая овса. Во мне только голод и усталость придавлены были грустным созерцанием. И вдруг раздалась в воздухе одна песня — заветная песня моей юности. О, сколько страданий и восторгов заключено было в каждой ноте, в каждом заунывном ее звуке!